|
17.09.2012 |
|
Глава 2.
Герменевтический эллипс и его структура
Философы без
философии
И все-таки время
от времени мы используем сочетание слов вроде «русской философии», перечисляем
имена «русских философов» -- Г. Сковороды, В. Соловьева, Н. Федорова, К.
Леонтьева, С. Булгакова, Н. Бердяева, С. Н. Трубецкого, С. Франка, П.
Флоренского, Л. Шестова, А. Кожева, А. Лосева. Кто же они
тогда и чем занимались?
Во-первых,
философы могут быть и при отсутствии философии в культуре народа: отдельные
представители данного народа вполне могут интегрироваться в культурную и
философскую традицию другого народа, у которого такая традиция есть. Философы возможны
и без философии, но
прилагательное «русский» применительно к такому философу будет означать только
происхождение его личности, а не участие в герменевтическом круге целостного
явления под названием «русская
философия». В
этом смысле все вышеперечисленные авторы и еще целый ряд других вполне и без
всякой натяжки могут именоваться «русскими философами»: это русские, которые
философствовали. Все
верно. При этом плоды их философствования не вылились в создание русской философии. Кое-кто из них и не ставил такой
задачи (Г. Сковорода, А. Кожев, Л. Шестов, Н. Бердяев), а кое-кто ставил (В.
Соловьев, Н. Федоров, С. Булгаков), но не справился. В любом случае при
сопоставлении того,
что мы знаем о самих «русских философах» и что получили от них в наследство в виде
трудов, идей, текстов, теорий, с философскими массивами, наработанными в
индоевропейских (и не только индоевропейских) культурах, становится совершенно
очевидно, что механическая совокупность всех их усилий философией в полном смысле
называться не может – ни в качественном, ни в количественном измерениях.
Иными словами, мы
имеем русских философов, но не имеем русской философии.
«Русские
фрагменты»
К этому базовому
отправному моменту можно отнестись двояко. С одной стороны, для корректности
дальнейших построений следовало бы показать, по какой причине то, что выдается
за «русскую философию», таковой не является. Этот критическимй аспект – он
расчистит нам путь (стадия «вывоза мусора»). С другой стороны, можно распознать
в идеях и трудах русских философов фрагменты, намеки и намерения, которые, будучи
распознаными и взятыми именно в таком качестве (а не как цельная философия),
будут чрезвычайно ценными для тех, кто все же задумывается на новом витке
истории о возможности русской философии как полноценного и состоятельного
явления.
Мы знаем, что
главное сочинение первого человека, называвшего себя (как принято
считать) «философом», Гераклита Эфесского «О природе» был утерян, но на
основании дошедших до нас разрозненных фрагментов, мы делаем грандиозные выводы
о том, какова была гераклитовская мысль. В качестве примера, можно обратиться к
текстам Хайдеггера о Гераклите (4) и к итогам его совместного с Ойгеном Финком
знаменитого семинара (5). Если отнестись к трудам «русских философов» именно
как к разрозненным фрагментам, причем написанным на
языке, до конца не расшифрованном, в котором можно опознать лишь отдельные
знаки, и то предположительно, вот тогда-то они обретут подлинную
ценность и
обнаружат свой созидательный потенциал для будущего. Мы должны их не
интерпетировать (в них, по сути, нечего толком интепретировать), но достраивать
и расшифровывать, как шарады, причем составленные наполовину, а то и на треть,
правильных ответов на которые не знали сами их составители, бросившие все дело,
едва начав. Смыл «русских фрагментов» мы должны достроить, извлечь, а чаще всего создатьзаново. Но все это справедливо в том случае, если изначально
оперировать с оптимистической гипотезой о том, чторусская философия возможна. Если она возможна, то у
«русских фрагментов» может быть смысл -- имеется в виду собственный русский смысл. Если этого
обосновать не удастся, то эти же фрагменты могут быть рассмотрены какпопытка на последнем
этапе включиться в работу западноевропейской философской традиции. И попытка явно неудачная,
подобно тому, как опоздавший пытается впрыгнуть в уходящий поезд, хватается за
поручень последнего вагона, но не удерживается и скатывается в канаву
(«философский пароход» 1922 года или крах советского марксизма в 1960-е,
ставший очевидным в 1991 году), где начинается совсем иная, новая и далеко не
философская жизнь.
В обоих случаях
речь идет о «феноменологической
деструкции» в
хайдеггеровском смысле, только процедуры будут разными. В первом случае мы
исходим из возможности существования такого целого как «русская философия» и
пытаемся найти соответствие этой (в высшей степени гипотетической)
структуры «русским фрагментам», то есть заведомо оперируем с русской
герменевтикой. Во
втором случае за достоверный герменевтический круг берется западноевропейская
философия (почему не индийская и не иранская, объяснять, думаю, не надо) и
демонстрируется, непониманием, искажением и кривым усвоением чего были эти «русские
фрагменты» и как они возникли. Эту вторую разновидность
«феноменологической деструкции» частично уже проделали либеральные критики и
представители русофобского направления – как в России, так и за ее пределами.
Правда, эта работа была настолько окрашена политическими и пропагандистскими
моментами и эмоциональным злорадством, что ее теоретическая ценность и
конструктивность (пусть критическая) зачастую совсем теряется. Перед лицом
высокомерной брезгливости тех, кто критикует «русскую философию» как посмещище
и убожество, возникает столь же ангажированный обратный импульс, подталкивающий
нас – вопреки всякой очевидности – заявить: «Русская философия была и
представляла собой самостоятельное и весомое явление, внесшее свой вклад в
сокровищницу мировой философской мысли». Получается, что на оскорбительно
оформленную правду,
мы отвечаемуспокоительной ложью. Это не
философский, а полемико-публицистический прием, который стоит оставить в
стороне.
Выходом из такой
ситуации будет концентрация внимания именно на возможности русской философии. Мы не настаиваем на
том, что она действительна. Скорее всего, как действительного явления ее нет.
Мы даже не настаиваем на том, что она возможна. Может быть, и это не так, может
быть, она и вовсе невозможна. Мы лишь прорабатываем философскую гипотезу о
существовании такого герменевтического круга, который можно было бы назвать
«русской философией», и на этой гипотезе хотим построить нашу собственную
герменевтику.
Русская философия
– это такое гипотетическое целое, которое нам не дано ни как целое, ни как
несколько частей.
Это целиком воображаемый мир, построенный, однако, на вполне конкретном и
феноменологически бесспорном основании русского Начала, русскости, русского
мира, русской самобытности, русской культуры. Русское феноменологически достоверно. Кто это отрицает, с теми разговор
короткий: это просто враги, а с врагами во все времена поступали одинаково. Но
русская философия целиком принадлежит сфере проективной возможности. Онафеноменологически
недостоверна, она
пребывает в грезе, как мечта, тонкий сон, если угодно, галлюцинация. Но не
стоит недооценивать силу воображения (6), оно играет важнейшую роль в
антропологической конституции и, соответственно, в культуре и обществе. И
«русские философские фрагменты» есть крошечные пятна пыльцы в этой грезе, не
более того, но и не менее.
Архемодерн и
псевдоморфоз
Специфика русской
культуры и русского общества может быть определена как археомодерн (7). Особенно это
касается последних трех веков, следующих за петровскими реформами. Термин
«археомодерн» описывает ситуацию, когда социальная модернизация осуществлется
не естественно и органично, накапливая
предпосылки в глубине общественных процессов, но навязывается сверху волевым образом, причем
за модель модернизации берутся социо-культурные и социо-политические образцы,
скопированные с обществ с совершенно иной историей, типом и находящихся в
других фазах своего развития (да и само развитие может происходить в разных
направлениях). Такая «модернизация» является экзогенной, а не эндогенной (8) и не трансформирует глубинную структуру
подвергающегося модернизации традиционного общества, а лишь искажает ее. При этом внутренняя
структура в основном сохраняется в архаическом,
«начальном» («arch» – «начало») состоянии, что порождаетредубляцию социальной культуры и «двойную герменевтику». Модернизированные
пласты общества (элиты) мыслят себя в одном мире, в одном качестве, в одном
социальном времени, а массы остаются архаическими и интерпретируют социальные
факты в оптике прежних традиционных преставлений. О. Шпенглер называл это
явление «псевдоморфозом» (9), привлекая метафору из области минерологии и
кристаллографии, где естественный рост кристаллических пород нарушается внешним
по отношению к нему явлением – например, извержением вулканической магмы, чьи
частицы вмешиваются в процесс кристаллообразования и создают уродливые
кристаллы-гибриды.
Археомодерн
представляет собой общество-гибрид, в котором обе стороны – модернизированная и традиционная –
легко угадываются, но не
вступают друг с другом в упорядоченное, логическое взаимодействие, не сопрягаются
осознанно и последовательно, а сосуществуют «де факто», не замечая друг друга.
В археомодерне никогда нельзя быть уверенным, что имеешь дело с элементом
модерна или архаики: в любой момент ситуация может измениться и из-под маски
современности выглянет старина, а традиция при ближайшем рассмотрении обернется
подделкой. В таком обществе доминирует принцип социальной лжи – и элиты и массы систематически лгут себе и другим о своей
природе, но не потому, что знают истину, но скрывают ее, а потому, что не знают этой истины и скрывают свое
незнание.
Именно
археомодерн как социокультурный тип сложился в России в последние столетия. О.
Шпенглер считал, что явления псевдоморфоза в русской истории начались с Петра
I, хотя их предпосылки видны уже в русском расколе. От других форм
археомодерна, к которым в той или иной степени относятся колониальные и
постколониальные общества (что видно на примере стран Африки, Латинской
Америки, исламского мира, Индии, Китая и, с определенными оговорками,
Японии, Южной Кореи и т.д.), Россию отличает лишь то, что экзогенная
модернизация проходила в ней без
фактической утраты суверенитета и без полной колонизации. Скорее она носила «оборонительный» (10) характер и служила
для того, чтобы отстоять суверенитет и независимость перед лицом агрессивно
напирающей Западной Европы. То, что другим традиционным обществам навязывали
колонизаторы, мы
навязали себе сами –
причем именно в целях защиты от потенциальных колонизаторов, то есть во имя
свободы и независимости. От этого русский археомодерн не стал менее болезненным
и противоестественным, но приобрелдополнительное измерение
– он получил возможность быть интерпретированным не только как фатальное
следствие утраты самостоятельности на определенном историческом этапе перед
лицом современных обществ, но как своего рода сознательно избранная
«национальная идея».
В самом благожелательном смысле можно расшифровать
русский археомодерн как особую социальную
маскировку, на
которую пошло традиционное общество (arch), чтобы сохраниться в новых
исторических условиях, где внешние и наступательные колониальные общества
Модерна приобретали слишком много конкурентных преимуществ, не совместимых с
возможностью сохранения свободы традиционными обществами.
Если отнестись к
археомодерну критически, его можно рассмотреть
как сознательное и добровольное искажение традиционных социальных структур и искусственное
самозаражение,
проделанное для каких-то невнятных целей, в мире, где в большинстве случаях эти
искажения были навязаны принудительно, а эпидемия распространялась сама собой.
В таком случае петровские реформы и вся последующая история России, включая
СССР и современную РФ, видится как нечто среднее между диверсией правящего класса и
саморазрушительным мазохизмом общества в целом.
Смердяков как
центральная фигура археомодерна (о «банной мокроте»)
Программу
русского археомодерна кратко и емко излагает герой романа «Братья Карамазовы»
Ф.М.Достоевского Павел Смердяков, незаконнорожденный сын Федора Павловича
Карамазова от юродивой нищенки Лизаветы Смердящей. –
« Я всю Россию ненавижу,
Марья Кондратьевна. (…) В двенадцатом году было на Россию великое нашествие
императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили
эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к
себе. Совсем даже были бы другие порядки» (11).
И в следующем
диалоге с той же Марией Кондратьевной:
" -- Когда бы вы
были военным юнкерочком али гусариком молоденьким, вы бы... саблю вынули и всю
Россию стали защищать.
-- Я не только не желаю
быть военным гусариком, Марья Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожения
всех солдат-с.
- А когда неприятель
придет, кто же нас защищать будет?
- Да и не надо вовсе-с. В
двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона... и
хорошо, кабы нас тогда покорили..." (12).
Это не простое
западничество, хотя Павел Смердяков, разумеется, западник, что видно из его
восхищения всем европейским. Сам он так говорит о европейцах:
«Тамошний [т. е.
иностранец] в лакированных сапогах ходит, а наш подлец в своей нищете
смердит". (13)
Здесь показательно,
что Смердяков частично критикует и самого себя, свою русскую природу. Смердела,
судя по уничижительной кличке, и его юродивая матушка, и сам он смердит
изнутри, в соответствии со своей фамилией, но старается заглушить смердение
духами и замаскировать лаковыми туфлями. Это образ русского лакея, бастарда --
социальной фигуры, зависшей между барином и простолюдином,
существа, глубоко больного, искореженного, расстроенного, но вместе с тем
страдающего и мучающегося, а также мучающего других. Это и есть гибрид, типичный образ,
концентрирующий основные свойства русского архемодерна. Эту особость
смердяковской породы отмечает у Достоевского старый слуга Григорий, вырастивший
Смердякова (русский слуга как представитель
традиционного архаического русского общества противопоставляется русскому лакею). Осознавая
патологичность русского лакейства, социальной смердяковщины как метафизического
явления архемодерна, Григорий еще в детстве Смердякова настаивал на том, чтобы
его не крестить:
"Потому что это...
дракон... смешение природы произошло"(14).
Это чрезвычайно
важное «смешение
природы»,
причем «смешение» патологическое, противоестественное, эстетически
отвратительное и этически отталкивающее (Смердяков окажется в романе
отцеубийцей), и есть формула
русского археомодерна,
отвратительный гибрид архаизма с современностью, осуществленный в ущерб обоим составляющим,
приводящий к извращению и вырождению и того и другого. Старый русский слуга подозревает, что тип
российского лакея, идущий ему на смену,
несет в себе колоссальную антропологическую
угрозу.
Развивая тему «дракона», «смешения природы», Григорий прямо в лицо сообщает
Смердякову:
«Ты разве человек?... Ты
не человек, ты из банной мокроты завелся, вот ты кто". (15)
Это не просто
раздраженная метафора, это важнейшее прозрение в область социальной антропологии. Смердяков (российский
лакей и прототип русского либерала), на взгляд типичного представителя
архаической Руси, «не
человек»,
«нечисть», злое демоническое существо, родившееся из «банной мокроты» (используемый
здесь образ «бани» и «мокроты» имеет архаическую структуру и означает нечто
«нечистое», «изначальное», напоминая сюжет о споре дьявола с Богом в
многочисленных русских апокрифических преданиях о сотворении мира с явными
элементами то ли древнего иранского дуализма, то ли средневекового
богомильства) (16).
Самое важное при
этом, что выродок Смердяков – абсолютно автохтонный русский выродок. Его «западничество» не
является причиной его вырождения, напротив, вырождение, свое, глубинное,
толкает его – из осознания собственной патологии и отвращения к своему и всему
окружающему – к поклонению перед «другим», в данном случае перед Европой,
возводимой в идеал. В Смердякове и русском археомодерне центральна не любовь к
иному, но ненависть к
своему. Это
отличает русский археомодерн от колониальных и постколониальных аналогов.
В колониальной
Индии или рабовладельческой Бразилии модерн, воплощенный в правящем классе
европейских колонизаторов, был катастрофой, бедой, имевшей внешний характер. И
хотя постепенно колонизация проникла вглубь, породила прослойки
коллаборационистов, имитаторов и трансгрессоров, она не несла в себе глубинного
раскола сознания народа и ненависть его к своей идентичности. Это было подобно
стихийному бедствию и
не имело эндогенных культурных корней.
Искусственная
модернизация русских и их вестернизация, начиная с Петра I, порождала чувство внутренней
изменыобщества
самому себе, своим корням, и «оборонительный», «вынужденный» характер такой
модернизации, быть может, рационально внятный элитам, широким массам объяснить
было невозможно. (Тем более, было не понятно, почему надо было обязательно
«выплескивать ребенка вместе с водой» -- жертвовать идентичностью ради
сомнительных благ технического развития). До масс доходил лишь осмысленный по-смердяковски диспозитив различных
стратегий самоотчуждения, раскола сознания, внутренней ненависти и брезгливости
-- в первую очередь, к самим себе. Модерн воспринимался не как таковой, а как мера унижения -- как то, в
сравнении с чем, все русское самим же русским субъективно представлялось
«убогим», «ничтожным», «позорным», «отталкивающим. Благодаря такому пониманию
«модерна» в археомодерне его содержание, как и сам процесс модернизации,
воспринимается заведомо неверно, искаженно, утрачивает оригинальное, но не
приобретает положительное
и новое содержание, превращаясь в бессмысленное и отягощающее патогенное ядро, в источник
непрестанного ressentiment (17).
Вместе с тем в
фигуре российского «лакея-дракона» существенно мутировала архаическая сторона, утрачивая спокойное
самотождество архаики, выворачиваясь наизнанку, теряя внутреннюю структуру –
структуру мифа и обычая, обряда и традиции.
Герменевтический
эллипс
Русская культура
вступила на путь археомодерна с конца XVII века, но его первые признаки проявились
еще раньше – с первой половины этого столетия. Именно тогда стали заметны
фундаментальные изменения в церковной практике: распространение многоголосия и
частичное внедрение партеса в церковном пении, влияние «фряжского» письма –
перспективы – в иконописи (например, в школе Ушакова и парсунной живописи), а
также активное навязывание европейских мод и обычаев (театры, табакокурение,
новые стили в одежде и т.д.). В церковном расколе, а затем в петровских
преобразованих эта тенденция достигла своей кульминации и предопределила
структуру русского общества вплоть до нашего времени. С петровского
периода Россия живет в археомодерне, и обращение к этой социальной модели служит основополагающей
герменевтической базой для корректной интерпретации основных культурных,
социальных, политических, духовных и хозяйственных событий.
Археомодерн можно
уподобить фигуре эллипса с двумя фокусами --
фокусом Модерна и фокусом архаики. На уровне элиты развертывались
процессы модернизации (=европеизации), а народные массы оставались в рамках
архаической парадигмы, в Руси Московской. В своих ядрах обе социальные
группы жили автономно друг от друга, почти не
пересекаясь, как на двух разных планетах, на двух разных социальных
территориях. Различались костюмы, нравы, даже язык: элита романовской России
после XVII века свободно говорила на голландском, английском, немецком, позже
французском языках, а русского могла вполне и не знать, он был излишним в
повседневной жизни дворянина. Эти две территории представляли собой два типа
того, что Гуссерль назвал «жизненным
миром»
(Lebenswelt) – два удаленные друг от друга горизонта бытия и быта,
структурированные абсолютно различным образом. Ядро элиты составляли
иностранцы, служившие эталоном для собственно русской аристократии: они-то и
были носителями подлинно европейского Lebenswelt'а. Ядро же простого народа
составляли староверы и, частично, представители русского сектантства,
сознательно стремившиеся иметь с российским государством и «кадровым» обществом
(то есть с Модерном) как можно меньше пересечений (18). Но хотя эти миры были
полностью разведены, все же мы имеем дело с одним и тем же обществом, пусть и состоящим из суперпозиции двух культурных
территорий. Причем это единство было оформлено единством политического, социального и хозяйственногомеханизмов, так или иначе
затрагивающего всех. Между этими двуми полюсами и кристаллизовалась постепенно
обобщающая фигура, воплощающая в себе археомодерн не как составное, разложимое
понятие, но как без-образный интериоризированный псевдосинтез. Это и есть наш Смердяков – «лакей-дракон». Он был тем общим,
что превращало две окружности с различными центрами в единый русский
эллипс.
И именно
смердяковщина, которая легко угадывается в русской аристократии (и у героев
Пушкина и Лермонтова, а особенно ярко в лице реального исторического персонажа
Петра Чаадаева), является тем целым, которое представляет
собой структуру герменевтического эллипса археомодерна.
Западнический
фокус
В структуре
описанного герменевтического эллипса можно отметить тот полюс, который воплощал
в себе модернизацию (Модерн) и представлял собой часть западной судьбы.
Западный человек, даже живущий в России, или отдельный русский (аристократ),
полностью интегрированный в западное общество (что теоретически вполне
возможно), является частью
западной культуры,
западной социальности и, соответственно, моментом логики развития западной истории. С точки зрения
философии (что отчетливо показывает Мартин Хайдеггер) эта история была выражением
различных этапов философского мышления. Западное общество и этапы его исторического становления вплоть
до модерна представляли собой
отражение развития западной философии. Поэтому модерн(Новое время) был частью
западной судьбы, в
каком-то смысле, ее целью, ее «телосом». Модерн вызрел в западной культуре,
воплотился в ней и вылился за ее пределы в колониальном броске Европы к
интеграции мира под своим началом (эпоха Великих географических открытий).
Полюс модерна в России в его чистом
виде вполне может рассматриваться как крайняя периферия западноевропейского герменевтического
круга, наподобие
заблудившегося в малярийных болотах Амазонки в поисках Эль Дорадо озверевшего
испанского конквистадора (19). О такой фигуре проникновенно писал Николай
Гумилев:
Углубясь в неведомые
горы,
Заблудился старый конквистадор.
В дымном небе плавали
кондоры,
Нависали снежные
громады.
Восемь дней скитался он
без пищи,
Конь издох, но под
большим уступом
Он нашёл уютное жилище,
Чтоб не разлучаться с
милым трупом.
Там он жил в тени сухих
смоковниц
Песни пел о солнечной
Кастилье,
Вспоминал сраженья и
любовниц,
Видел то пищали, то
мантильи.
Как всегда, был дерзок и
спокоен
И не знал ни ужаса, ни
злости,
Смерть пришла, и
предложил ей воин
Поиграть в изломанные
кости.
Ясно, что такому
«конквистадору» не до философии, но даже в нечеловеческих условиях он остается носителем
западноевропейской судьбы,
которая выставляет западного человека в его фундаментальном и неснимаемом
одиночестве перед лицом главной собеседницы, смерти, в структуре алеаторного
кода, связанного со случайностью затерянного в лабиринтах растущего ничто европейского Dasein'а.
Но этот
экзистенциальный заряд реальной (а не имитационно- смердяковской, и на самом
деле, глубоко русской от этого) западной культуры на уровне народных масс совершенно не
воспринимался и не расшифровывался. Поэтому модернизация как включение в западноевропейский
процесс, в западноевропейскую судьбу распространялась на очень
ограниченный слой русской политической элиты. Как представительница православной державы, стремящейся (пусть
по прагматическим соображениям) сохранить суверенитет перед лицом других
европейских держав, готовых в любой момент на него покуситься, эта элита
геополитически была ориентирована преимущественно против Запада -- как по периферии русского владычества на Западе
(Прибалтика, Украина), так и на Юге (Крым, Кавказ) и на Востоке (Центральная
Азия, и начиная с определенного момента, Дальний Восток).
Эти
геополитические обстоятельства никак не способствовали органичному усвоению
начал западной философии даже русской аристократией. Российская элита развивала
архетип отважного ландскнехта, оказавшегося на службе в чужой, непонятной и не
интересующей его стране, но старающегося в меру своих сил служить ей за
конкретный интерес.
Схематизация
герменевтического эллипса
Принятие археомодерна в качестве базовой модели
интерпертации особенностей ментальности русского общества последних веков
подводит нас вплотную к проблеме корректной дешифровки того, чем на самом деле
являлись попытки русских мыслителей XIX века построить «русскую философию».
Графическое изображение герменевтического эллипса русского архемодерна подводит
нас вплотную к основной проблематике нашего исследования. Рассмотрим следующую
схему.
Схема 1. Русский герменевтический
эллипс (археомодерн)
На ней мы видим
несколько фигур. Собственно эллипс обозначает русский археомодерн,
представляющимся при поверхностном анализе чем-то цельным и единым, но на самом деле организованным вокруг двух довольно далеко
друг от друга отстоящих (и, самое главное, имеющих разную
качественную природу)
фокусов.
Структура полюса
Фокус B (схема 1) есть фокус модерна. Весь секрет в том, что
он принадлежит другому реально существующему,
действительному герменевтическому кругу – кругу западноевропейской философии.
То есть дискурс модернизации в русском обществе является провинциальным и глухим
воспроизводством западноевропейской
культуры, истории и, соответственно, философии. При этом сам по себе фокус В (схема 1) имеет свое ядро и свою периферию. В ядре находятся европейцы, поселившиеся (постоянно
или временно) в России и сохраняющие органическую связь с герменевтическим
кругом западной культуры.
В первую очередь,
это либо русские цари и царицы, породнившиеся с европейскими домами, либо сами
этнические иностранцы. Естественно, что они появлялись на российском престоле
не в гордом одиночестве, а везли с собой из Европы целую армию родственников,
любовников и любовниц, фрейлин, шутов, докторов и гигантский обслуживающий
императорских особ персонал, автоматически попадавший на высший этаж власти.
Все они были носителями западноевропейского начала, что сказывалось и в том
случае, если сами они были православными или принимали православие в России. В
XVIII-XIX веках от русского православия осталась лишь форма, а содержание было
в корне извращено различными западно-христианскими влияниями (католическими,
протестантскими, мистическими, масонскими и т.д.) как изнутри новообрядческого
духовенства (20), так и со стороны светской знати.
Иностранцами были
заложены основы российской академической науки – в первую очередь, в рамках
петровской Академии Наук, чей проект был полностью реализован при Екатерине I.
Среди них выделяется целая плеяда ученых-иностранцев: медики Л.Л.Блюментрост,
И.Д.Шумахер, историки Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер, физики Д. и Н.
Бернулли, У.Т.Эпинус, математик Л. Эйлер, естествоиспытатель И.Г. Гмелин,
академический функционер И.А.Тауберг, филолог Г.З.Байер, рисовальщик и
искусствовед Я.Штелин и т.д. К этому следует добавить и иностранцев,
завербовавшихся на русскую службу в поисках чинов и наград. Все вместе они и
создавали содержание полюса B (схема 1), являясь
истинными носителями модерна, хотя бы и
периферийного, колониально-«конквистадорского».
Вокруг этого ядра
в виде концентрических малых эллипсов группируется собственно русская
среда тех, кто захвачен процессом европеизации и модернизации. Это
представители русского боярства и особенно дворянства, стремящиеся по чисто
практическим соображениям стяжать благосклонность их Императорских величеств и
готовые ради этого жертвовать старыми традициями и устоями. Это и новая плеяда
собственно русских ученых (подчас по происхождению разночинцев -- таких, как
М.В.Ломоносов, -- но быстро поднимающихся в элиту), которые перенимают у иностранцев
отдельные аспекты их мышления, образуя основу российского интеллектуального
класса. То есть вокруг полюса B (схема 1) мало-помалу
складываются концентрические фигуры, русского общества, в первую очередь,
аристократического.
При этом чем дальше они
удаляются от собственно иностранного ядра, тем больше в них стирается строгость
структуры зарадноевропейского мышления, размываемая притягивающими влияниями второго фокуса (А) (схема 1), который
представляет собой полюс
архаики.
Размывание западноевропейского ядра особенно заметно в русскихразночинцах второй половины XIX
века, близких к народным массам, хотя и не только в них, как показывает случай русских консерваторов начала того
же века -- А. С. Шишкова, С. Н. Глинки, М. Л. Магницкого, Ф. В. Ростопчина,
А. С. Стурдзы, С. С. Уварова, и славянофилов -- А. С. Хомякова, И. В.
Киреевского, братьев К. С. и И. С. Аксаковых, или А. С. Пушкина,
заинтересовавшегося народной культурой «сверху», с позиции аристократии.
Складывающиеся
вокруг полюса B (схема 1) круги, постепенно расширяясь,
меняют форму, превращаясь
в эллипсыпо
мере того, как русское Начало, фокус A,
оказывает на них все большее влияние. Рассмотрим теперь подробнее сам этот
фокус.
Фокус архаики
Фокус А (схема 1) отмечает
архаическое начало в герменевтическом эллипсе. Он-то и может рассматриваться какпотенциальный центр того
гипотетического герменевтического круга (не эллипса!), который можно было бы назвать «русской
философией», возможности которой посвящена данная работа. Мы наметили этот круг
пунктиром (схема 1), чтобы подчеркнуть его гипотетический характер. Как
такового его нет. Но может ли он
быть, мы и попытаемся выяснить в ходе нашего исследования с опорой на философию
Мартина Хайдеггера. Пока же нам важно, что в реальной структуре русского
общества этот фокус находится в подчиненном положении и
сооответствует широким массам, народу, тому, что можно назвать архаическим
началом русского общества.
С учетом этого иерархического соподчинения следует расположить герменевтический
эллипс русского археомодерна вертикально.
В
 А
А
Схема 2. Русский
герменевтический эллипс: вертикальное расположение, подчеркивающее
иерархическое сопряжение фокусов.
Финальный
герменевтический эллипс складывается из расширения процесса модернизации и
европеизации, постепенно включающего в себя все более широкие слои русских
людей. Полюс А (схема 2) – фокус архаики
– представляет собой своего рода «посторонний аттрактор», влияние которого
видоизменяет общую структуру социума и его логоса и искажает его пропорции,
имитирующие (по замыслу модернизаторов) герменевтическийкруг западноевропейской
культуры, науки и философии. Особенно отчетливо это можно наблюдать в XIX веке
по мере распространения проекта «народного Просвещения», когда под влияние
западнического по своим основным параметрам образования попадают большие
сегменты простого русского народа.
|
|
|
17.09.2012 |
|
Часть 1.
Археомодерн. Герменевтический эллипс. Отсутствие русской философии.
Глава 1. Народ
без философии
Разбор завалов
Прежде чем
приступать к более пристальному изучению вопроса о возможности русской
философии и о ее предпосылках, стоит бегло рассмотреть тот объект, который мы
сегодня по инерции и без критического рассмотрения называем «русской
философией». Прежде чем что-то созидать, необходимо осуществить две
предварительные операции – «разбор завалов» и «вывоз мусора». Мы не сможем
сделать ни одного шага на пути к русской философии, если будем считать, что
«она у нас уже есть». Если бы она была, то ее надо было бы просто развивать.
Поэтому для выхода на начальные позиции исследования, мы должны показать, что
ее нет, а то, что стоит на ее месте, является хламом и недоразумением. Это ни в
коей мере не является злорадством: просто философия не выносит никаких натяжек
и заведомо требует от нас преданности только истине, даже если она окажется
горькой. Кроме того, все обстоит не так уж и печально: если окажется, что
русской философии нет, то это можно интерпретировать не просто как
неспособность русских эту философию создать, но, быть может, как знак того, что
сроки для этого еще не пришли и условия не сложились. В конце концов, может
оказаться, что русским философия вообще не нужна, и ее отсутствие – выражение
нормы, а не недочет и не недоразумение. Если выяснится, что мы, русские, народ
не философский, то тем хуже для философии, а не для народа. Нельзя исключать,
что мы к этому и придем в ходе нашего исследования, но здесь не стоит забегать
вперед. Действовать надо постепенно и последовательно.
Гегель говорил,
что «великий народ порождает великих философов». Мы, русские, вне всяких
сомнений – великий
народ. Но
своих настоящих – великих – философов мы не
породили. Как разрешить это противоречие?
Первая версия:
все впереди. Вторая: Гегель ошибался. Третья: мы не великий народ. Последнее
отвергается с порога, так как, посмотрев на нашу культуру в целом, на нашу
историю, на наши свершения, на наши земли и нашу духовность, мы убедимся, что
русские -- великий народ, оперирующий с великим масштабом. Остается две версии:
либо все
впереди,
либо философия не
есть судьба народа или,
по меньшей мере, есть судьба не
всякого народа.
Философия и
индоевропейский мир. Индийская философия
Вторая гипотеза
(«Гегель ошибался») наталкивается на следующее наблюдение
историко-лингвистического толка. Если мы окинем взором семью индоевропейских
народов и, шире, тех культур, которые построены на основеиндоевропейских языков, то мы убедимся,
что все они, так или иначе,
выработали свои философские школы. И эти школы представляют собой внушительные,
монументальные явления мировой истории и культуры.
Часто под
«философией» понимается лишь западноевропейская философия – от досократиков до
Ницше (как считал Хайдеггер). Это, на самом деле, есть философия европейского,
романо-германского сегмента индоевропейского мира, его крайне-западной части.
Здесь нет никаких сомнений: западноевропейская философия наиболее показательна
и эксплицитна в смысле развития заложенных в ней начал и оснований, постепенно
обретших яркую, внятную и внушительную форму. Но и другие – восточные – ветви
индоевропейцев создали хотя и качественно иные, но не менее убедительные
философские школы, открыв целые материки философской мысли.
Возьмем, к
примеру, индийскую философию. Построенная на основании одного из
индоевропейских языков, эта философия представляет собой монументальный,
уникальный и оригинальный дворец
мысли, к
которому относятся сотни школ и направлений, сонм выдающихся мыслителей, удивительное
многообразие методов, подходов и принципов. В индийской философии есть все – и
общий дух или стиль, позволяющий говорить о ней как о цельном феномене, и
широкий спектр идей и теорий, чрезвычайно разноречивых и отличающихся друг от
друга как в главном, так и в частностях.
Взять хотя бы
противоположные школы Веданты: двайту и адвайту. Первая основана на
дуалистическом, вторая -- на недуалистическом толковании «Вед». Казалось бы,
полное противоречие, но индийский дух преодолевает его, находя место и той и
другой мысли в рамках общего философского поля (1).
Посмотрев на
индийскую философию шире, кроме шести классических «даршан» (философских
систем) мы увидим еще целый пласт «гетеродоксальных» философских систем – от
гигантского поля буддистской философии и джайнизма до локаятиков и чарваков.
Индийская
философия представляет собой четко фиксируемое и чрезвычайно развитое явление,
гигантское интеллектуальное здание рациональности, подвергшееся
последовательной и систематической рефлексии. В этой философии есть и
антропологические, и гносеологические, и онтологические направления, а также
эстетика, этика и социально-политические разделы. Общая структура этой
философии фундаментально
отличается по
предпосылкам, методам и общепринятым началам от западноевропейской философии,
но нисколько не
уступает ейв
развитии рационалистического аппарата и глубины саморефлексии. Так на двух
полюсах индоевропейского мира – на Западе и на Востоке Евразии -- мы
встречаемся с двумя ярчайшими типами философского мышления, глубоко
инкорпорированного в культуру, общество, политику и религию (2). Если учесть
качество и масштаб влияния этих явлений на культуры Запада и Востока, а также
их распространение на близлежащие общества, то связь индоевропейских культур и народов с философией откроется нам как некая
фундаментальная закономерность, а сама философия предстанет как глобальное
явление,
сосредоточенное в обществах индоевропейцев и описанное преимущественно на
индоевропейских языках – санскрите, пали, хинди, в одном случае, и греческих,
романских и германских, в другом.
Философия Ирана
Еще один
гигантский пласт философствующих
индоевропейцев мы
встречаем в Иране и в том культурном ареале, на который культура Ирана
оказывала на протяжении веков прямое воздействие. – Сюда же следует отнести и
некоторые кочевые ираноязычные племена. И снова, как и в Индии, мы имеем дело с
развитой философией, но сопряженной с совершенно особым философским духом,
отличным от индийского и западноевропейского.
В отличие от
индийской интегральности и инклюзивности и западноевропейского плюрализма и
дробности иранская философия ставит в центре внимания дуализм мира и оперирует с ним на
разный манер. Это касается как древнеиранской культуры, так и маздеизма,
зороастризма, митраизма и позднее иранского шиитского ислама, включая
многообразные секты – такие как манихейство или бабизм. Все эти
философско-религиозные учения вышли далеко за пределы собственно Ирана,
распространившись среди народов Малой Азии, среди славян и европейцев вплоть до
Западной Европы (где мы встречаем отголоски иранского дуализма и манихейства в
средневековых гностических сектах – у катаров, альбигойцев, вальденсов, вплоть
до ранних протестантов – чешских гуситов и немецких последователей Томаса
Мюнцера).
Иранская мысль
строится вокруг фундаментальной дихотомии: свет/тьма, верх/низ, добро/зло, чистота/грязь,боги/демоны и т.д. Эта
дихотомия предопределяет самые разнообразные философско-религиозные,
социальные, политические и культурные конструкции, выработанные иранцами в
разных фазах своей истории.
На всех этапах
истории Ирана мы имеем дело именно
с философией,
быть может, не столь эксплицитно развитой, как в Индии или Европе, но тем
не менее вполне оригинальной, четко оформленной и уходящей в глубь
истории на несколько тысячелетий. Иранская философия -- явление несомненное и
самобытное.
Кроме индусов и
европейцев мы видим, что еще один огромный сектор индоевропейских этносов –
иранцы и близкие к ним народы – выработал собственную философскую традиции и
изложил ее на своем языке.
Философия в
арабском мире и в Китае
Следует обратить
внимание на то, что вне индоевропейского
контекста есть также, как минимум, две культуры, породившие полноценные
философские школы и направления и претендующие на глобальность: это китайскаякультура и исламо-арабская культура. Это два полюса
самобытного философского духа, также оказавшего огромное влияние на мышление
целых народов.
Китай за
тысячелетия своей истории создал неповторимый тип интеллектуальной культуры, в
которой можно различить несколько пластов:
-
архаические культы предков и духов,
-
этико-административную и ритуальную философию Конфуция, объединяющую
политические нормативы и установления с обрядовыми и моральными ценностями,
-
даосские учения последователей Лао Цзы, построенные на парадоксах между конечным (совокупно «дэ», «благо»)
и бесконечным (Дао),
-
переработанный в китайском ключе индийский буддизм (чань-буддизм), в котором мы
имеем дело с влиянием индоевропейской религиозно-философской
системы.
При всем многообразии
и подчас противоречиях все пласты китайской культуры составляют единое целое, объединенное
специфическим стилем мышления, созерцания, этического начала. Здесь дуальность
(инь-ян) в отличие от иранского подхода не приводит к неснимаемой оппозиции, но
интегрируется в сложный и диалектический комплекс. Китайская философия, в свою
очередь, фундаментально повлияла на культуру близлежащих народов – тибетцев и
монголов на Севере, японцев, корейцев, вьетнамцев и тайцев на Востоке, а также
на многие тихоокеанские этносы на Юге.
Совершенно
самостоятельное явление представляет собой арабская исламская философия,
основанная на толкованиях и комментариях к священному тексту мусульман «Корану»
и представляющая собой своеобразное развитие семитского культурного начала,
уходящего корнями в Ассирию и Финикию, но обладающую уникальными самобытными
чертами. Велико влияние на исламскую философию и греческой традиции – Платона,
Аристотеля, стоиков, -- ставших известными в арабском мире в значительной
степени благодаря школе нехристианских неоплатоников в Харране, где они
обосновались после их изгнания из Византии императором Юстинианом в 529 г. В
Средневековье сама Западная Европа получала сведения о дохристианской философии
в значительной мере через обратные переводы с арабского.
В некоторых
случаях, например, в Иране, наложение арабско-исламского, неоплатонического, и
собственно иранского философского наследия привели к появлению новых самобытных
философий (ярчайший пример тому -- средневековый философ Шихабоддин Яхья
Сухраварди).
Как бы то ни
было, помимо очевидных и весьма серьезных влияний индоевропейских философий, и
китайцы и арабы выработали развернутые уникальные и оригинальные философские
учения, многообразные и разновекторные, но объединенные общим духовным стилем,
общей манерой мышления – с развитым философским языком, методологиями и
структурами понятий.
Славянская
асимметрия
Для нас важно, в
первую очередь, что большинство
индоевропейских народов и соответствующих им языковых культур создали обширные и убедительные философские
комплексы,
представляющие собой масштабные и возделанные традиции. На этом фоне сразу
бросается в глаза определенная ассиметрия: славяне, с одной стороны, являются
многочисленным сегментом индоевропейской языково-культурной общины, находящейся
на территориях между Западной Европой и Востоком, но, с другой стороны, такого
явления как славянская
философия нет. В
отдельных случаях это может быть объяснено тем, что славянские народы Восточной
Европы находились долгие века под влиянием иных философских традиций –
греческой (в случае православных народов) или романо-германской (в случае
славян-католиков и позже протестантов, например, чехов). Но случай России,
самой крупной и численно и территориально славянской державы, показывает, что славяне
не обращают большого внимания на философию даже тогда, когда создают
самостоятельные и самобытные культуры, империи и суверенные державы.
Несомненно,
славянская культура существует, имеет определенные обобщающие черты и
выразительные особенности. Но место философии в этой культуре либо
незначительно, либо его вообще нет.
Эта асимметрия
бросается в глаза. Если философия связана со структурой языка (что можно было
бы предположить, учитывая философский масштаб большинства индоевропейских
народов, хотя арабский мир и Китай дают нам иные примеры (3)), то почему такой
большой и культурно самобытный сегмент индоевропейцев, как славяне, способные
построить, защитить и увеличить мощные независимые державы (Россия, а некогда
Сербия Неманичей или Древняя Болгария), не выработали чего-то, даже отдаленно
напоминающего философию других индоевропейских обществ или обществ,
находившихся под их духовным влиянием? Поверхностный ответ (с изрядно долей
расизма), будто «славяне не являются этнически чистыми индоевропейцами», не
имеет никакого значения: индийское общество в расовом смысле куда более
разнородно, влияние автохтонного населения там куда более ощутимо, а
философская культура – да еще какая! – создана и развивается гармонично по сей
день. Очевидно, что настоящая причина откладывания философии в сторону в
славянских обществах не
лежит на поверхности.
Быть может, в ходе нашего исследования о возможности русской философии нам
удастся приблизиться к ней. Пока же ограничимся фиксацией этого обстоятельства,
которое является феноменологической констатацией: дело
обстоит так и никак иначе. И это бесспорное наблюдение будет служить для нас
отправной точкой.
Но, как бы то ни
было, мы видим: славянский сегмент индоеверопейцев в отношении философии стоит под паром. Это отдыхающее поле, не
только не принесшее плодов, но, судя по всему, еще и незасеянное. А если кто-то
и пытался здесь что-то посеять, то это закончилось неудачей – семена либо упали
на каменистую почву, либо были расклеваны птицами небесными, либо забиты
сорняками. Это славянское, русское поле, чрезвычайно обаятельное, явно
окультуренное и ждущее
чего-то, но
пока философски бесплодное.
|
|
|
17.09.2012 |
|
Введение. Значение
Хайдеггера и его истории философии для России
Возможность русской
философии
Сегодня довольно остро стоит
вопрос: что такое русская философия? Была ли она? Есть ли она сейчас? Будет ли она
завтра? Но есть вопрос еще более глубокий: а возможна ли вообще русская философия? Вопрос звучит странно и
парадоксально, но мы нередко сталкиваемся с явлениями, которые де-факто существуют,
но их смысл, содержание, оправданность и органическая структура остаются проблематичными.
При ближайшем рассмотрении такие явления оказываются не тем, за что они себя выдают,
но симулякрами, подделками, смутными «копиями без оригинала» (Ж.Бодрийяр)(1). Они
«есть», но они невозможны. Их онтология коренится на недоразумении, на подделке,
на дисгармоничном сдвиге. Питирим Сорокин описывал подобные явления в социальных
системах как «общество-свалка» («dumping ground society»)(2). Освальд Шпенглер прибегал
в подобных случаях к образу «псевдоморфоза» (3) (в геологии так называется особое
минеральное образование, в естественный процесс кристаллизации которого вмешиваются
непредвиденные гетерогенные факторы – например, лава извергающегося вулкана и т.п.)
Поэтому вопрос о возможности русской философии вполне легитимен.
То, что мы привычно называем этим именем, может оказаться именно симулякром или
псевдоморфозом. А может и не оказаться. В любом случае, чтобы всерьез обосновать
возможность русской философии, надо сделать определенное усилие. Это усилие тем
более необходимо, что даже самый оптимистичный взгляд на русскую философию не может
игнорировать ее достаточно позднее появление в русской истории и серьезный перерыв
в ее существовании в ХХ веке, когда она, если и не исчезла окончательно (не
успев по-настоящему начаться), то изрядно исказилась в марксистской догматике.
Если русская философия как
таковая есть, то она существенно повреждена исторически и требует реанимации. Если
вместо нее мы имеем дело с бледным начальным мерцанием, с наброском, то тем более
необходимо обратиться к ее предпосылкам, к области ее возможности. Тем более требуется
ее обоснование и затем возвращение на те стартовые позиции, с которых может начаться
не простой и не столь очевидный процесс философии в контексте самобытной русской
культуры.
Корреляция русской
философии с западной
Русская философия (или ее
симулякр) возникла как реакция
на европейскую философию: от нее она отталкивалась, с ней соотносилась, в ней искала источники
вдохновения, с ней спорила, ей подражала, ее опровергала и развивала. Какие бы аспекты
русской философии ни затрагивались, мы обязательно будем иметь дело с ответом на
вызов, с реакцией, с осмыслением тезиса (теории, системы, школы, идеологии), пришедших
в Россию с Запада. Даже в том случае, когда русские мыслители стремились или по
настоящему были в чем-то оригинальными, сама эта оригинальность проявлялась в форме
контраста с философией Запада, сопоставления именно с ней. Подражали ли русские
мыслители Европе или отвергали ее, но они именно с ней соотносились, и в качестве
тезиса брали ту или иную философскую теорию или совокупность теорий Запада,
отталкиваясь от которых, разворачивали собственные соображения.
Это обстоятельство заставляет
нас для понимания русской философии XIX-XX веков обращаться к соответствующим европейским
философским контекстам. Возможность русской философии неразрывно связана с реально
существующей и развивавшейся по автономной логике западноевропейской философией.
Актуальность западной философии была потенциальностью философии русской. Эта корреляция
является фундаментальной. Но интерпретирована она может быть по-разному.
С одной стороны, это может
означать, что русская философия является ответвлением западноевропейской философии,
ее поздним и специфическим побегом (отростком). С другой стороны, можно расшифровать
это потенцирование как ответ на вызов, то есть как вынужденно оборонительный жест,
направленный преимущественно против западной философии (как у славянофилов и, частично,
у русских марксистов). В третьих, можно рассмотреть ее как «псевдоморфоз» Шпенглера,
то есть как результат гетерогенной и неорганичной прививки (полунасильственной-полудобровольной)
одной культурной формы к другой, совершенно ей не соответствующей. И, наконец, такая
корреляция может быть рассмотрена как форма культурной экспансии, попытка духовной
колонизации Западом русского общества через инсталляцию своего рационального культурного
кода, облегчающего отправление реальной власти и обеспечивающего контроль западного
общества над русским обществом.
Во все случаях русская философия
соотносилась и соотносится с западной философией, и нет никаких оснований для того,
чтобы предположить, что в будущем это будет не так.
Момент развертывания
западноевропейской истории философии
Западноевропейская философская
мысль представляет собой динамический процесс. Этот процесс может быть реконструирован
и тем более интерпретирован по-разному, но никто не берется опровергать, что история
западноевропейской мысли проходит в своем становлении определенные сменяющие одна
другую фазы, в рамках которых доминируют те или иные философские парадигмы (подобно
вскрытой Т.Куном смене парадигм в научном знании(4)). Эти фазы – как бы мы их ни
определяли – представляют собой связные системы, которые как круги на воде расходятся
вокруг той или иной школы или личности, пересекаются, конфликтуют друг с другом,
образуя определенный интеллектуальный узор(5). Этот узор составляет общую структуру
истории философии как истории
западноевропейской философии.
И если о параметрах этого узора ведутся бесконечные споры, никто не ставит под сомнение
сам факт наличия этой истории. Западноевропейская философия представляет собой историческое
явление, где мы ясно различаем Начало (досократики, Античность), фиксируем дальнейшие
эпохи от Платона и Аристотеля к Средневековью, Новому времени и так вплоть до современной
эпохи постмодерна.
Русская философия в своей
возможности быть имеет дело с историческим процессом, с исторической структурой,
имеющей глубокие корни и вполне определенные очертания. Ветви единого древа непрерывно
растут, но структура древа философских знаний остается в целом постоянной. Поэтому
русская философия не может ограничиться контактом (резонансом/диссонансом) с каким-то
моментом становления западноевропейской философии, с той или иной частной школой,
с той или иной ветвью, направлением, траекторией мысли. Чтобы быть, русская философия должна
отнестись ко
всей истории философии целиком, и имея дело с любым ее моментом, сопоставить себя с динамическим
и открыто развивающимся целым.
Становится очевидным, что
западноевропейская философия в таком случае должна быть представлена русскому обществу
в виде истории философии, то есть той или иной схематической
теории, обобщающей западноевропейский философский процесс. Это не только облегчит
для русских знакомство с отдельными его моментами, но и вообще сделает знакомство
с частным возможным – через сжатую схему целого, дающего горизонт смысла
фрагментам.
Это обстоятельство
объясняет факт чрезвычайной популярности в России Гегеля – создателя одной из
самых емких и панорамных алгоритмов истории философии. Более того, возможно,
именно впитанный Марксом гегелевский подход и стал основанием для широкой
популярности марксизма в России. Через Маркса и Гегеля русские знакомились
сразу со всей западноевропейской философией, раскрытой в ее структуре на
примере простой для понимания диалектической схемы. И та же причина лежит в
основании недооценки Канта и кантианцев, которые не предложили компактной
историко-философской модели. Кант для русского сознания остался лишь моментом
философии. Гегель же претендовал на то, что, представляя момент философского
процесса, воплотил в этом моменте (особом, эсхатологическом и телеологическом)
смысл истории философии как всеобщей истории.
Это замечание чрезвычайно
важно для понимания сути русской философии. Когда русские захотели (захотят)
войти в процесс философии, они вынуждены были (будут) входить не в философию, а
в историю философии, и им был (будет) необходим не только ее момент (конкретная
школа, концепция, идея), но и краткое изложение предшествующих фаз процесса,
причем именно философское, концептуальное его изложение. Осмыслив весь
историко-философский процесс целиком, можно соучаствовать в нем. Важно не
просто впрыгнуть в «волшебный трамвай» (Н.Гумилев), но понимать, по какому
маршруту, откуда и куда он следует. Поэтому для «прыжка» в философию
русским всегда необходима история философии. Только тот момент
западноевропейской философии, который будет содержать в себе формулу всей этой
философии, сможет стать тем моментом, куда, собственно, русская философия может
быть привита или откуда она может взять свой собственный старт (в любом
направлении).
Итак, возможностью
русской философии является та западноевропейская философия, которая
представляет собой одновременно и момент развития этой философии и
повествование об алгоритме (структуре) всей истории философии в сжатом и
кратком оформлении.
В XIX веке, когда
возникло нечто похожее на «русскую философию», самой возможностью ее бытия
выступила философия Гегеля с ее подвидом – философией Карла Маркса. Именно
гегельянство (и его разновидность – марксистская философия) могут
рассматриваться как герменевтическая база, как семантическое целое, послужившие
точкой отсчета для «русской философии» в ее первом приближении. И если мы
осознаем это, то поймем, почему именно марксизм почти на столетие заворожил
русское философское мышление. Именно так, а не наоборот: не тоталитарная
политическая система сделала марксизм судьбой русского мышления в ХХ веке, а
марксизм как разновидность гегельянской истории философии
предопределил тоталитарную политическую систему советского периода. Политика
есть следствие философии – обратное же неверно.
Хайдеггер как
шанс для русской философии
Последнее замечание
хорошо объясняет ретроспективу – почему Гегель и почему Маркс – но не вводит
нас в более широкую проблематику: какова возможность русской философии? Так
было, и то, что было именно так, чрезвычайно важно. Но вместе с тем, это
привязано к историческому моменту самой западноевропейской философии – к тому,
когда контакт между русскими и ею самой состоялся. Это предопределило
траекторию определенного периода, обнаружило важные закономерности.
Закономерности остались (возможность русской философии лежит в истории
западноевропейской философии – сейчас и всегда), но момент изменился. Поэтому
для того, чтобы расширить горизонт от исторического момента до исторической
закономерности, и чтобы в действительности (здесь и сейчас) эту закономерность
обнаружить, необходимо задаться новым вопросом. В то время, когда русские на
протяжении почти всего ХХ века следовали за марксистской историей философии, не
появилось ли на Западе какой-то иной историко-философской версии, которая
переосмыслила бы гегелевское наследие или учла бы новые моменты? Только в этом
случае, поняв и преодолев гегельянство и марксизм как исчерпавшую себя версию
философствования (не ошибочную, а просто иссякшую, в смысле животворных
философских сил), мы могли бы повторить начало русской философии и доказать ее возможность не в историческом
моменте, но в целом, как более общее явление. Нет сомнений, что новых моментов
в западноевропейской философии в ХХ веке было множество – Витгенштейн и
структуралисты, феноменологи, и экзистенциалисты. Но все это ничего не
говорит русской философии в том случае, если она хочет обосновать свою возможность в более широком смысле,
нежели развитие одной из ветвей мышления XIX века. С нашим гегельянством
(марксизмом) все понятно (понятно ли?), но как нам отнестись ко всему
остальному?
Сами мы дать внятный
ответ не можем – отбросив марксизм, мы растерялись, упустили нить, стали
хвататься за отдельные разрозненные моменты в хаотической потребности
философствовать при отсутствии серьезных оснований для этого. Мы попытались
заявить о себе как о моменте в том процессе, полноценными участниками которого,
как выяснилось, не были. Мы попытались проскочить мимо вопроса о возможности
русской философии, сделали вид, что можем обойтись и без истории
философии (она, действительно, не нужна тем, кто и так есть часть этой
истории). Но из этого ничего не вышло.
Сейчас – это очевидно:
пытаясь философствовать, современный русский выглядит как дурак. И чем ловчее
он подражает тем, кто философствует, тем более он дурак.
Идентификация новой
истории философии для русских жизненно необходима. Это и есть обоснование
возможности нашей русской философии. Но тут-то и начинаются проблемы. На первый
взгляд, ХХ век создал множество историй философии – выбирай, не хочу. Но
при ближайшем рассмотрении все рассыпается как прах: историй философии не было,
были философии истории (К.Ясперс)(6) или просто моменты эпистемологического
анализа (М.Фуко)(7). В своем контексте все это было своевременно и
содержательно, только не для нас. Для того, чтобы войти в герменевтический
круг, нам необходима подсказка; без нее мы оказываемся вне этого круга. Кто-то
из западноевропейских философов должен сообщить нам пароль, открыть код, дать
нам ключ.
На поверхности это не
лежит. Но если мы хотим, несмотря ни на что, обосновать возможность русской
философии, нам придется искать именно это – историю философии, вычлененную
фундаментальным и «родным» для Запада онтологически репрезентативным мыслителем
ХХ века.
Моя гипотеза состоит в
том, что таким мыслителем, создавшим концепцию, адекватную всему
историко-философскому процессу западной культуры, является Мартин Хайдеггер.
Если эта гипотеза подтвердится, то именно в нем нам предстоит обнаружить и
обосновать возможность русской философии – не в ретроспективном, но в перспективном
горизонте. Если Хайдеггер станет для нас тем, чем стали Гегель и Маркс в веке
XIX-ом, то мы получим легитимацию для второго русского захода в философию.
Средний Хайдеггер
как важнейший элемент в реконструкции истории философии
Возникает вопрос: а есть
ли у Хайдеггера история философии? Не является ли его учение лишь моментом в
процессе западноевропейской философии, не содержащим в себе емкого изложения
структуры самого этого процесса?
Это вопрос может
возникать только в связи с одним тонким историко-философским обстоятельством. В
наследии Хайдеггера внимание специалистов, как правило, сосредоточено на раннем
периоде его философского творчества -- на феноменологии и гуссерлианстве(8),
кульминацией чего стало его знаменитое «Sein und Zeit»(9). Узкий круг
специалистов по Хайдеггеру исследовал также позднего Хайдеггера,
преимущественно рассматривая этот период как отход от классического
философствования и обращение к мифологии, «мистике» и поэтической герменевтике.
Средний же период его творчества, приходящийся на 1930-е годы и первую половину
1940-х годов, чаще всего выпадал из поля зрения исследователей. Этот период,
как правило, толковали как переход от аналитики Dasein'а к поздней
герменевтике(10). В такой оптике у Хайдеггера, действительно, трудно найти
полноценную историю философии, и его идеи выглядят лишь философским моментом.
Но если восполнить этот пробел, учитывая изданные лишь в последние
десятилетия, после смерти самого философа, наброски и тексты этой эпохи:
«Beitraege zur Philosophie»(11), «Geschichte des Seyns»(12), «Uber Anfang»(13)
и т.д., мозаика его мысли складывается в единое целое, и перед нами открывается
именно то, что мы искали – хайдеггеровская история философии, причем не менее
последовательная и всеохватывающая, чем у Гегеля. Как и любая схематизация, она
полна натяжек и обобщений; но это свойство любой редукционистской схемы. Нас же
должно волновать лишь одно: сумел ли Хайдеггер отразить в своем творчестве
голограмму западноевропейской судьбы?
Если целостно осмыслить
все три периода философствования Хайдеггера, мы получим полную картину не
просто его философии, но его концепции истории философии, что для нас гораздо
важнее. Эта истории философия претендует на то, чтобы сказать о структуре всего
процесса решающее слово: сам Хайдеггер (как и Гегель) осознает свою философию
как «метафизическую эсхатологию» (как он сам пишет в «Holzwege»)(14), как
выражение той формы, к которой западноевропейский процесс двигался.
Философия вечера
Для Хайдеггера история
Запада есть история западной философии. То есть философия выражает в себе
глубинное содержание всего исторического процесса. При этом Хайдеггер, равно
как и Гуссерль и все западноевропейские мыслители, отождествляет судьбу Запада
с универсальной судьбой человечества, которое в своем жизненном цикле обречено
на то, чтобы двигаться к закату, к «за-паду» своего духовного солнца. Запад
есть место заката, там солнце «за-падает», отходит ко сну. Запад по-немецки
Abendland - «страна вечера». Вечер есть, в каком-то смысле, эсхатон и
телос дневного цикла. В какой бы части дня – утренней или полуденной – мы ни
находились, рано или поздно мы столкнемся с горизонтом вечера, с Западом, с
закатом. Западноевропейская философия универсальна в том смысле, что все рано
или поздно приходит к своему закату(15). Поэтому тот, кто мыслит о конце, о
вечере, о сумерках бытия, тот мыслит не только о себе, но и обо всех, рано или
поздно обреченных на достижение этой точки.
Поэтому для Хайдеггера
справедлива гомология: мировая история сводима к истории западной культуры и
цивилизации; а история западной культуры и цивилизации сводима к истории
западной философии. Следовательно, мировая история сводима к истории западной
философии. Поэтому структура западной философии как процесса есть
концентрированное выражение «судьбы бытия» (Seynsgeschichte)(16).
Эта логика исторического
финализма (типологически повторяющая рисунок мышления Гегеля – только на ином,
экзистенциальном, а не концептуальном уровне) предопределяет и еще одну
гомологию: телеологизм самой истории философии, которая тяготеет к стягиванию в
точке эсхатона. Будучи вечерней, по определению, эта история разрешается в
точке полуночи, которая и есть цель и предел, к которому весь процесс
устремляется. Хайдеггер подводит нас к мысли, что точка конца западноевропейской философии является наиболее важной во всем
процессе ее развертывания и поэтому может быть взята за главный момент ее
содержания.
Таким образом,
гомологическая цепочка получает последний элемент: история человечества
сводится к истории западноевропейского человечества, которая, в свою очередь,
сводится к истории западноевропейской философии и далее – к точке конца западноевропейской
философии.
Но именно такая схема –
это то, что необходимо для актуализации русской философии. Если нам довериться
Хайдеггеру, мы получим именно то, что нам необходимо в качестве предпосылки для
живого философского мышления. Мы получим не просто момент философии Запада, но
алгоритм этой философии, причем приближенный к ее концу, что, в данной
интерпретации, означает приобщение к самому существенному в этой философии –
ведь речь идет о философии заката, где наиболее важным элементом является ночь
и ее структура. Хайдеггер в этом случае и становится искомой возможностью
русской философии, позволяя нам соотнестись с ее схематически описанным целым.
Хайдеггер,
голограмма и герменевтический круг
Реконструкция истории
философии Хайдеггера предполагает восполнение более или менее известных и
исследованных периодов его творчества пониманием смысла среднего периода, когда
мысль Хайдеггера (по свидетельству знаменитого «Письма о гуманизме» его
французскому другу и корреспонденту Жану Боффре в 17)) была занята
преимущественно проблемой Ereignis.
Тот факт, что Хайдеггер
является величайшим представителем западноевропейской традиции, не оспаривает
никто, как бы к Хайдеггеру ни относились. Но понимание того, что Хайдеггер
нарисовал ясную картину истории западноевропейской философской традиции, ее
смысла и судьбы, встречается намного реже. Однако ознакомление со всеми тремя периодами
его творчества и правильная реконструкция структуры его философской мысли
позволяют представить хайдеггеровскую концепцию истории философии со всей
однозначностью. Для нас решающим является не то, справедлива ли эта
историко-философская картина или проблематична. Нам важно констатировать, что
она есть, что она систематически и структурно описана, а значит, с ней можно
оперировать как с полноценным философским аппаратом, как с методологией и
голограммой.
Выяснив структуру
хайдеггеровской концепции истории философии и проведя различение ее фаз и
этапов в оптике самого философа, мы – как русские, глядя из русского (что
значит из неопределенного) – будем вольны отнестись к ней по-разному, критично
и некритично. В первом случае, выяснив
структуру этой истории философии, мы принимаем решение ей не доверять,
во-втором – доверять, принимать за достоверную.
Здесь встает вопрос о
герменевтике и проблеме «герменевтического круга», заботившей Дильтея и
Гадамера. Понимание возможно только при соотнесении частного с общим. Но лучшее
понимание общего аффектирует (меняет) понимание частного, а понимание частного
трансформирует видение общего; в процессе постижения уточняются два
неизвестных, которые корректируют друг друга, но никогда не могут быть
определены до конца сами по себе, без соотнесения с другим. Поэтому в процессе
познания всегда фигурируют презумпции и относительно целого и относительно
частного, которые уточняются (подчас опровергаются и заменяются другими) в ходе
самой герменевтической практики.
Применительно к
Хайдеггеру и интерпретации его философии мы сталкиваемся с той же
герменевтической проблемой. Чтобы корректно оценить его место в процессе
западноевропейской философии, мы вынуждены иметь общую схему этого процесса
(гипотезу целого и его структуры). Но эту схему мы должны где-то найти. Мы
можем заимствовать ее либо у Хайдеггера, либо не у Хайдеггера. В первом случае
мы можем воспользоваться его историей философии (а таковая, как мы видели,
существует, особенно если внимательно исследовать тезисы среднего периода его
творчества 1930-х – 1940-х годов) как целым, отталкиваясь от которого мы будем
рассматривать всю структуру западноевропейской философии и место в ней
Хайдеггера. Конечно, по логике герменевтического процесса, параллельно мы
сможем уточнять и то и другое: и смысл истории философии как целого, и места в
ней нашего философа, что может привести к результатам, отличным от готовых
формул, выдвигаемых самим Хайдеггером. Но стартовая схема герменевтического
круга будет именно такой. Можно сказать, что в этом случае, мы доверяем
Хайдеггеру и двигаемся вдоль предложенной им герменевтической оси. Куда же
приведет это движение, заведомо сказать трудно.
Второй вариант состоит в
том, что мы не доверяем истории философии Хайдеггера (например, не признав ее
легитимность, или, что бывает чаще, не затратив усилий на ее изучение и
последовательное осмысление), и значит, должны брать в качестве целого иную
версию истории философии. Вот тут-то и начинаются трудности.
Дело в том, что созданием
внятной истории философии занимались на Западе очень немногие авторы, а среди
фигур первой величины можно назвать лишь единицы. Первой и во многом
непревзойденной до сих пор инициативой подобного рода была философия
Аристотеля. В XIX веке Гегель обосновал историю философии как высшее проявление
самой философии, создав предпосылки для широкого спектра философских теорий, и
в частности, чрезвычайно популярного в XIX-ХХ веках марксизма. Причем для этих
и иных наиболее внушительных историй философии в той или иной степени действовал
принцип голографии – сами эти философии
мыслились как синтетическое обобщение историко-философского процесса. История
философии и философия Аристотеля располагалась в начале истории философии,
открывая ее первые страницы и суммируя «предисловие» (досократическую мысль).
Гегель мыслил себя как мыслителя, завершающего историко-философский процесс,
обретающего в его трудах свой телеологический конец (в соответствии с учением
об Абсолютной Идее и фазах ее диалектического развертывания). Другие «неголографические»
попытки предложить историю философию как открытый процесс, чаще всего
представляли собой формально дескриптивные, а не структурированные семантически
модели (Иоганн Франц Буддеус (1667—1729), Иоганн Якоб Бруккер (1696—1770) и так вплоть
до Бертрана Рассела(18)). В них история философии осмыслялось не как нечто
целое, а как последовательность моментов. При этом наличие или отсутствие голографической
конструкции истории философии для самих западноевропейских философов было
некритично, так как они естественным образом принадлежали к этому процессу,
находились внутри культуры, построенной на философских основаниях, что заведомо
предопределило их имплицитное соучастие в том, что эксплицитно могло и не
оформляться. Иными словами, открытая, чисто дескриптивная история философии
или, вообще, отсутствие какой бы то ни было истории философии не составляло
серьезной проблемы для западноевропейских философов. Они вполне могли обойтись
и без нее.
Совсем другое дело
русская философия. Она испытывала насущную потребность в суммирующей
голограмме, чтобы корректно взаимодействовать и соотноситься с каждым из
действительных моментов западной философии (то есть с учениями того или иного
философа). Без образа «целого» она не могла бы быть тем, чем должна была бы
быть.
Поэтомув русском
культурном контексте мы сталкиваемся с серьезной проблемой: если мы откажем
истории философии Хайдеггера в доверии, то нам надо будет поместить самого
философа в какой-то иной историко-философский контекст на основании соотнесения
с иным «целым». И тут выбор невелик: едва ли корректно интерпретировать
Хайдеггера с опорой на историю философии Аристотеля (озаряющего момент начала
философской традиции) или на гегелевскую или марксистскую схемы
«искомого» целого. Прочтение Хайдеггера с марксистских позиций в советской
философской школе вообще никаких результатов, кроме недоразумений, не дало, а
западные течения марксизма и неомарксизма, вобравшие кроме собственно Маркса и
гегелевской диалектики еще множество философских элементов из других контекстов
(кантианство, феноменология, фрейдизм, экзистенциализм, структурализм,
философия языка, ницшеанство и т.д.), свести эти направления в общую
обновленную историю философии не сумели или не ставили перед собой такой
задачи. В такой ситуации проекция гегельянства на интерпретацию Хайдеггера
будет просто анахронизмом, тем более что в чистом виде в ХХ веке гегельянства
не сохранилось, а его многообразные интерпретации (в том числе критические)
преобразились в спектр конфликтующих между собой дробных философских систем,
затемнивших изначальную ясность и убедительность самого Гегеля.
Вопрос доверять или не
доверять истории философии Хайдеггера, таким образом, остро стоит именно для
тех, кто задумывается о возможности русской философии, и выбор «не доверять»
представляется еще более сложным и проблематичным, чем «доверять». Чтобы отдать
себе в этом отчет, надо еще раз подчеркнуть, что для западной философии такой
проблемы вообще не стоит. Хайдеггеровская история философии может учитываться
или не учитываться с одинаковым успехом: органичное культурное соучастие в
истории философии гарантируется «укорененностью» западного мыслителя в
культурной среде, и для этого специальной голограммы не требуется.
Этот зазор культурного
контекста, однако, может породить у русских, интересующихся философией, иллюзию
того, что через прямое подражание западным философам можно обойтись без
«целого». Вот в этом-то и состоит заблуждение: европейцам – можно, нам –
нельзя. Если мы хотим соотнестись с герменевтическим кругом западной философии,
нам не обойтись без образа «целого», только после этого мы обретаем возможность
полноценного философствования.
Мой тезис сводится к
следующему. На прежних этапах XIX-XX века возможность русской философии
обосновывалась обращением к гегельянской истории философии, отталкиваясь от
которой мы на протяжении почти двухсот лет строили процесс русского
философствования. Увиденный в таком ракурсе, марксизм советского периода
прекрасно вписывается в это русло – ведь марксизм также представлял собой емкую
и голографическую, телеологическую и эсхатологическую версию истории философии.
Но сегодня легитимность и конструктивность гегелевско-марксистской истории
философии для нас исчерпана. Мы взяли из нее максимум того, что было возможно,
и пришли к исчерпанию этой парадигмы. Поэтому мы заново – и уже с опорой на
новые историко-философские конструкции – должны обосновать возможность русской
философии. И в качестве такой историко-философской голограммы предлагается
взять за основу для вступления в герменевтический круг историю философию
Мартина Хайдеггера Для этого надо отложить недоверие, и напротив, отнестись к
нему – пусть на первом этапе – с доверием и открытостью, со своего рода,
гносеологической эмпатией.. В случае успеха мы получим на новой историческом
витке обоснование для того, чтобы русская философия могла быть.
Три этапа
философского творчества Хайдеггера
Как отмечалось, общим
местом в хайдеггероведении является разбиение его философского цикла на
ранний (феноменологические штудии и написание «Sein und Zeit»(19)), средний
(малоизвестный и проходившей под знаком мысли об Ereignis– к нему примыкают
серии лекций о Ницше(20), Holzwege (21) и циклы лекций 1930-х годов,
объединенные в посмертные сборники «Beitrage zur Philosopie» (22), «Von Anfang»
(23), «Geschichte des Seyns» (24) и т.д.), и поздний период (сопряженный с
философией языка и формализацией описания Geviert'а(25)).
На всех этих этапах в
различных произведениях и циклах разбросаны отдельные элементы хайдеггеровской
истории философии. Если нацелиться на их выявление, сведение воедино и
систематическое описание, мы обнаружим их как в самых ранних работах, так и в
«Sein und Zeit» и в герменевтическом периоде. Но особенно эксплицитно они
изложены в среднем цикле. «Beitrage zur Philosophie»(26) и «Geschichte
des Seyns» (27), в целом, представляют собой конспекты лекций, выстроенных как
история философии, а «Einfuhrung in die Metaphysik»(28) проливает свет на
структуру этой истории философии и на ее онтологические основания. Увиденная в
этой перспективе знаменитая теория хайдеггеровского Dasein'а обнаружится как
кульминационная точка историко-философского процесса, к которой этот процесс
телеологически сходится.
Таким образом, материалы
среднего периода творчества Хайдеггера дают нам остов для выяснения его
историко-философской схемы, на которую накладываются теории других циклов его
творчества.
Схема истории
философии у Хайдеггера
Реконструкция Хайдеггером
истории философии может быть схематически описана следующим образом.
Рождение философии в
досократической мысли – это великая триада Анаксимандра, Гераклита и
Парменида, представляющая собой первое
Начало или великое Начало.
Здесь философия
появляется из предфилософии или не-философии, из мышления. Провозвестником ее
несколько веков ранее служил поэтический гений Гомера.
Согласно Хайдеггеру, первое Начало
философии характерно
решением онтологической проблематики – вопроса о том, что такое бытие и как его надо понимать.
Впервые четкие формы эта проблематика приобретает у Гераклита в его учении о фюзисе и логосе. Бытие как то, что делает то, что есть, тем, что есть, мыслится в великом
Начале как «фюзис» – то есть открывающая, восходящая,
обнаруживающая «мощь
наличия». В
этом учении Гераклита для Хайдеггера состоит сияющий триумф философии и
одновременно первое рождение той тенденции, которая – много позже – поведет
философию к ее Концу. Отождествление «бытия» с «фюзис» есть лишь наполовину
корректное решение онтологической проблематики. Конечно, мыслит Хайдеггер,
бытие есть фюзис, порождающая сила мира, выводящая вещи и существа на свет
наличия, в открытость, делающая сущее сущим, тем, что есть. В этом смысле бытие и
есть сущее, все сущее в целом, то есть фюзис. Но эта отправная точка философии
– при всем фундаментальном величии – уже заключает в себе определенную
погрешность: празднуя бытие как наличие и приведение к наличию, как сущее,
досократическая онтология упускает из виду другую сторону бытию – ту, которая
приводит сущее к несуществованию, к гибели, ту, что ничтожит, уничтожает сущее. Ничто скрывается за бытием,
осознанным исключительно как «фюзис», исчезает в нем. И Парменид в своей
знаменитой поэме закрепит это исчезновение формулой «небытия нет». По Хайдеггеру,
небытие, ничто (Nichts) как ничтожение (Nichten) в бытии очень
даже есть. И безупречная онтология должна была бы изначально поместить это «ничтожение» внутрь фюзис,
разглядеть его в бытии как его обратную сторону, отличную от него и
одновременно тождественную с ним. Но греческая мысль пошла по иному пути: она
сосредоточилась на «бытии» как «фюзисе», упустив из виду «ничто» (в силу его
ничтожности). Тем самым – уже в самом великом Начале – возник определенный зазор
между тем, как стала складываться философия, и тем, как она должна была
сложиться, если бы онтологическая проблема была сформулирована должным образом.
Зазор между тем, как было исторически и как должно было быть, породил две
точки в структуре онтологии, через которую была проведена прямая,
предопределившая все остальные этапы истории западной философии. В результате
мы получили луч, обладающий и траекторией (линия) и ориентацией (вектором
направления, идущим от того, как надо было бы
понимать бытие к тому, как его не надо было понимать).
Уже в первом Начале у
Гераклита и Парменида происходит оформление фундаментальной конфигурации всего
историко-философского процесса. Этот процесс структурирован основной
парадигмой: прогрессирующим «отступлением от бытия», «утратой бытия»,
«забвением о бытии».
Логос и нигилизм
Компенсацией за утрату
различения ничтожащей стороны бытия в бытии как «фюзисе» стало появление
«логоса». «Логос», который Хайдеггер интерпретирует этимологически как «жатву»,
«сбор урожая», становится приоритетным топосом, в котором ничто, утраченное в осмыслении
бытия как фюзис, напоминает о себе. Это и есть специфика философии – введение в
игру ничтожащего
логоса,
помещенного на сей раз не в бытии (как следовало бы), а вне его, в условной
точке того, что позже у Аристотеля станет «upokeimenon»'ом, а в Новое время –
декартовским «субъектом».
Хайдеггер идентифицирует
работу логоса в процедуре «tecnh», или в том, что позже он назовет «Gestell».
Если бытие мира начинает мыслиться как преимущественно позитивное
наличие, то ничто все более концентрируется
на стороне познании и его дуальной топики. Познание как процесс есть корень
«технэ», в котором происходит жесткое расщепление бытия на фюзис и логос, на познаваемое и
познающего, что в дальнейшем приводит к постановке в центре именно познающего,
носителя логоса, развертывающего свою ничтожащую мощь на сферу фюзиса,
покоряющего бытие и, в конце концов, воспроизводящего бытие как искусственный
продукт. В этом пределе развития технического начала проявляется триумф
нигилизма.
Логос должен был бы быть
внутри фюзиса, но он оказался вовне, и это стало судьбой западноевропейской
философии, судьбой Запада, а также смыслом и содержанием ее развертывания.
Конец в рамках
первого Начала
Если у Гераклита и Парменида
основная тенденция западноевропейской философии была едва намечена, то у
Платона и Аристотеля она достигла четкой фиксации. Платонизм и аристотелизм
Хайдеггер называет «Концом в рамках первого Начала». Это еще абсолютно
греческая, дышащая онтологией и бытием, философская мысль, но возможность
осмыслить бытие как нечто открытое, возможность поместить логос не вовне
фюзиса, а внутри него, здесь снимается с повестки дня. Учение Платона об идеях
фиксирует предпосылки окончательно сформировавшейся референциальной
теории истины,
которая состоит в поиске соответствия умозрительного начала (идеи) и вещи
природного мира. Осуществление этой операции относится к разуму, логосу.
Бытие отныне мыслится как сущее, только высшее сущее или сущее-в-целом. Причем это не просто
динамика природной мощи, выталкивающая вещь к наличию, но фиксированный и
статичный зрительный образ, момент «светового созерцания».
По Хайдеггеру, это
фундаментальный и необратимый шаг по умалению статуса бытия, приравниваемого отныне
ухе не просто к фюзису, но к идее. Симметрично этому логос, в свою очередь,
делает серьезный шаг в сторону нигилизма и технического отношения к миру;
начинает доминировать метафора бога-демиурга, работника, ремесленника,
технически изготовляющего мир, отправляясь от фиксированных образов-идей.
Аристотель в своей
философии и истории философии фиксирует качественный момент Конца
досократического периода западной философии. Это конец во всех смыслах и
завершение (снятие) и совершение, то есть достижение полной зрелости,
совершенства, полноты того, что было заложено в мышлении досократиков.
Философия Аристотеля – это голограмма всей ранней греческой философии. Она
суммирует предыдущий период и закладывает основания дальнейшим этапам – что
верно не только для Стои, но и для более поздних схоластических периодов
западной философии, а также, в значительной степени, и для Нового времени (ведь
еще Кант заметил, что в области логики со времен Аристотеля философия не
продвинулась ни на шаг).
Платон и Аристотель, по
Хайдеггеру, отмечают собой момент завершения философского Начала. Далее идет
средний период, сопряженный с христианством, схоластикой и, в самом широком
смысле, называемый «Средними веками». С историко-философской точки зрения,
«Средними» эти века называются именно потому, что занимают промежуточное
положение между философией Античности (философией первого Начала) и философией
Нового времени.
Средневековье
Средневековой философии
Хайдеггер плотно занимался на первых этапах своего преподавания во Фрайбургском
университете, позднее он уделял ей совсем немного внимания. С его точки зрения,
формула Ницше о том, что «христианство есть платонизм для масс»(29) является
исчерпывающей аксиомой для суммирования философского положения дел со
Средневековой философией. Для Хайдеггера христианская схоластика есть развитие
того философского шага, который принципиально совершил Платон, поставив идею
(высшую идею, идею блага) на место бытия, фундаментально удалив, тем самым,
бытие от сферы философского мышления, подменив гносеологическую и
онтологическую проблематики. Теология продолжает эту же самую тенденцию,
поставив на место идеи как высшего сущего – Бога, то есть оставаясь в той же
платоновской парадигме.
Для Хайдеггера в
Средневековье не происходит ничего принципиально нового. Философия движется по
своему предначертанному досократиками, и особенно Платоном и Аристотелем,
пути.
Новое время –
Декарт
Но настоящему интересным
циклом для Хайдеггера
является Новое время. Он определяет его как «Начало Конца»
(симметрично тому, как платонизм был для него Концом в рамках первого
Начала).
Новое время размораживает средневековый схоластический платонизм и дает волю
нигилистической мощи логоса. В центре этого процесса – Декарт с его дуальной
конструкцией субъекта и объекта. Субъект вступает на место логоса, объект – на
место фюзиса. При этом Хайдеггер считает, что в этом философия Нового времени
приближается к более откровенной постановке проблемы: отказ от идей и обращение к
рациональному логическому мышлению напрямую как к субъекту обнаруживает саму
сущность философской проблематики, заложенной в эпоху Начала философии.
Картезианский рационализм, английский эмпиризм, Ньютон и все остальные
направления философии Нового времеи (от Спинозы и Лейбница до Канта)
развертываются уже в сфере более острой проблематизации онтологии, где вещи
называются своими именами.
Так Декарт с его cogito
откровенно помещает онтологический аргумент в область гносеологии, делает его
производным от логоса, рассудка. По Хайдеггеру, это начало явной доминации
технического отношения к миру и человеку; человек становится техником в
отношении к природе-объекту, и Gestell, завуалированный ранее, обнажает свою
историко-философскую мощь. Сама философия становится все более и более
техническим занятием, техникой мышления, сводящейся к методикам исчисления и
оценки. Иными словами, в Новое время нигилизм как сущность западноевропейской
философии обнаруживается в полной мере.
Гегель и Ницше
Период Нового времени
завершается, по Хайдеггеру, в философии Гегеля, а последним его аккордом
является Ницше.
Гегель создает свою
историю философии как грандиозное, монументальное творение западноевропейского
духа, концентрируя в ней судьбу Абсолютной Идеи, воплощенной в период «конца
истории» в субъективном духе западноевропейской культуры Нового времени. Гегель
всерьез ставит вопрос о соотношении бытия и ничто, бытия и познания, выстраивая
на этом свою диалектику. Проводя свою резюмирующую работу, Гегель, согласно
Хайдеггеру, остается все-таки в рамках западноевропейской метафизики, мыслит с
помощью «концептов» и «категорий», то есть все еще пребывает в пространстве
референциальной теории истины и общеевропейской философской топики.
Гегелевская онтология для Хайдеггера – это максимальное приближение к тому, чем
должна была бы быть истинная онтология (отсюда огромное внимание Гегеля к
Гераклиту и досократикам, мыслившим на симметричном отрезке истории философии –
но только в эпоху Начала, тогда как сам Гегель мыслит в эпоху Конца), но
приближение фатально некорректное именно за счет своей принадлежности к старой
метафизике, ее конструкциям и методам.
Еще честнее и откровеннее
философствует Ницше. Он прямо возвещает о «европейском нигилизме», кризисе
западной метафизики и «смерти Бога», разоблачает «волю к власти» как основу
исторического процесса, и, значит, основу философии и истории философии. При
этом Хайдеггер считает, что Ницше, обрушивший метафизику, не сделал ни шага за
ее пределы, но стал именно последним метафизическим мыслителем
западноевропейской традиции. Ницшеанский «сверхчеловек» и «воля к власти», по
Хайдеггеру, свидетельствуют отнюдь не о новом горизонте мышления, но лишь об
абсолютизации нигилистической природы логоса и высшей концентрации Gestell.
Другими словами, Ницше не
только не является альтернативой, но представляет собой подлинный и
состоявшийся Конец – Конец западноевропейской философии и, соответственно,
конец философии как таковой.
Так вместе с Гегелем и
Ницше западноевропейская философия проходит полный цикл от первого (великого)
Начала через средний (средневековый, в широком смысле) период до Начала Конца у
Декарта и к полному и необратимому Концу у Гегеля и, особенно, у Ницше.
Начавшись с несколько неточного определения бытия как фюзис, и только как
фюзис, западная философия вступила в свою роковым образом предначертанную
историю (судьбу), единственным содержанием которой стала прогрессирующая
дезонтологизация, утрата бытия, рост нигилизма, техне, Gestell, ничтожащего
рассудка как выражения воли к власти. Бытие убывало до того момента, пока не
убыло вовсе.
Но в этом, по Хайдеггеру,
и состоит судьба Запада как «страны Вечера» (Abendland). Убывание бытия есть
удел Запада и смысл истории философии как сугубо западного явления.
Дезонтологизация, сокрытие бытия и наступление нигилистической ночи не случайность
и не катастрофа, и даже не следствие ошибки – это высказывание философской
географии. Свет гаснет там и тогда, когда это нужно. И тогда, когда нужно,
своим чередом наступает мгла, «Великая полночь».
Согласно этой
реконструкции, западная философия закончилась. Оставшееся время может быть
посвящено осмыслению этого окончания, описанию и толкованию смысла этого
события.
Но есть у Хайдеггера и
иная тема, которая предопределяет острие его мысли в 1930-е годы и первую
половину 1940-х годов. Это мысль о другом Начале или об «Ereignis».
Другое Начало
В средний период своего
творчества Хайдеггер концентрирует свое внимание на понятии «Ereignis» и
связанной с ним непосредственно темой другого Начала. Ereignis и есть, по Хайдеггеру, другое Начало(30). Но это не просто «событие» («событие» - дословный перевод
«Ereignis»), но возможность «события», «свершения», имеющего фундаментальный
философский смысл.
Другое Начало – это то Начало, которое
в досократической мысли не началось. Это такое понимание бытия, которое
включает в бытие ничто как его необходимую
составляющую, которое, отождествляя бытие с сущим и фюзис, подчеркивает, что
это отождествление не исчерпывает бытия, так как бытие одновременно есть ине-сущее, небытие, ничто, а также то, что делает
сущее не только сущим, но и не-сущим, то есть то, чтоничтожит. Бытие в другом Начале
должно (было бы) быть осознано и как то, что есть,
и как то, чего нет, но что, не будучи сущим,
все равно есть (небытие есть – вопреки
Пармениду).
Вся история философии
есть удаление от возможности Ereignis, есть не-Ereignis по преимуществу, что и
воплощено в дезонтологизации и забвения о бытии, в Gestell и технэ. Но
хайдеггеровская отрицательная трактовка историко-философского процесса как
не-Ereignis несет в себе обратное указание на сам Ereignis, если только
расшифровать этот процесс как повествование не о том, что он есть сам по себе,
а о том, чем он не является, и о том, что не-явление составляет его высший и главный смысл. Западная философия,
осознанная как прогрессирующее удаление от истины, ее постепенное сокрытие,
есть парадоксальная форма обнаружения самой истины через ее диалектическое
отрицание и вуалирование. Поэтому Ereignis и другое Начало следует искать не
где-то еще, за пределом западноевропейской философии, но в ней самой – в ее
обратным образом интерпретированном содержании. Сам факт удаления от бытия в
ходе развертывания истории философии есть обратное указание на значимость бытия
и на то, как надо его мыслить.
Это корректное мышление
бытия в рамках «аутентичного» (eigene) экзистирования Хайдеггер описывает через
графическую фигуру Geviert, четверицы(31). В ней пересекаются
две пары противоположностей, представляющих собой онтологическое единство – 1) Небо («мир», в некоторых версиях) и 2)Земля, 3)смертные (люди) и 4) боги
(бессмертные).
Этот заимствованный из поэзии Гельдерлина образ, восходящий, кстати, к Платону,
где в гераклитовской вражде сходятся между собой четыре мировых области бытия, описывает то, каким следовало бы понимать
бытие в другом
Начале.
Другое Начало, по
Хайдеггеру, должно рождаться непосредственно из Конца философии, если только
этот конец будет корректно расшифрован и распознан. По этому поводу Хайдеггер
приводит строки из Гельдерлина: «Там, где риск, там, коренится спасение…»(32)
Чтобы перейти к другому
Началу,
надо сделать не шаг в сторону, не много шагов назад, но шаг вперед. Однако это
очень сложный шаг, в ходе которого сам нигилизм, сама утрата бытия в
западноевропейской философии, само tecnh и сам Gestell обнаружатся как открытие
истины Seyn-бытия через ее самосокрытие. В такой перспективе западная
философия, представляющая собой, в первом приближении, прогрессирующий кризис и
падение в сумерки, откроется как путь к спасению: тот, кто первым достигнет дна
бездны, сможет первым от него оттолкнуться и начать подъем.
Кто Вы, Herr Heidegger?
Сам Хайдеггер не раз
задавался вопросом: кто такой Гельдерлин в контексте современной философии? Кто
такой Ангел у Рильке(33)? Кто такой Заратустра у Ницше(34)? Мы можем в этом же
ключе спросить себя: а кто такой Мартин Хайдеггер в его же собственной
историко-философской картине? Из того, что было высказано выше о структуре
хайдеггеровской истории философии, почти однозначно следует вывод: себя самого
Хайдеггер считал философом
другого Начала;
провозвестником возможности Ereignis; фигурой, которая расшифровала логику
истории западноевропейской философии и открыла, через ее особую интерпретацию,
пространство выхода в новое постижение проблемы бытия.
В своей собственной
истории философии Хайдеггер усматривает двойственный ключевой момент. Он
состоит в фиксации исчерпанности историко-философского процесса свидетелем
достижения точки Великой Полночи, с одной стороны, а с другой – в
приоткрывании горизонта другого Начала, то есть возможности
философствовать иначе, чем философия философствовала ранее, но с учетом того
драматического и катастрофического опыта, который запечатлен в истории этой
философии.
С одной стороны,
Хайдеггер выполняет роль «доктора мертвых», выведенного А.Дюма на последних
страницах «Графа Монте Кристо»(35): он выписывает свидетельство о
состоявшейся и несомненной смерти (западноевропейской философии). А с другой
стороны, он открывает возможность заглянуть – через Geviert и перспективу другого Начала – за горизонт
рационалистического и технического нигилизма и подойти вплотную к иной
философии.
Иными словами, Мартин
Хайдеггер в западноевропейской философии есть точка отсчета во всех
направлениях – в прошлое, в будущее, и даже в сторону. Можно сказать, что
Хайдеггер в пределе мыслит себя как Dasein, чье наличие он вначале вскрыл и
обосновал, а затем фундаментально осмыслил в ходе развертывания своей
философии.
Если Гельдерлин, по
словам Хайдеггера, был поэтическим провозвестником другого Начала (как Гомер был
поэтическим провозвестником первого Начала), сам Хайдеггер стал точкой
отправления того мышления, которое эксплицитно (а не только эксплицитно) ставит
точку в конце западноевропейской философии и бросает ее в жерло вулкана.
Entscheidung
Хайдеггер как философский
персонаж своей собственной (eigene) истории философии есть воплощенное
приглашение к осуществлению решения (Entsсheidung). В отношении
Entscheidung Хайдеггер полемизировал с Карлом Шмиттом, построившим на принципе
решения (decisio) свою философию права
(Entscheidungslehre) (36). Хайдеггер укоряет Шмитта в том, что тот приземляет,
умаляет значение решения, сводя его к выбору
ориентации в конкретных вопросах политического толка. По Хайдеггеру,
Entscheidung – это нечто намного более фундаментальное и метаполитическое. Это
выбор, который осуществляется перед лицом финального момента в истории
философии: выбор между тем, чтобы двинуться в сторону другого Начала, и тем, чтобы сгинуть в
нескончаемых лабиринтах откладывания последнего историко-философского
мгновения, в «еще нет», во «все еще нет», которое не представляет собой ничего
принципиально нового, но стремится продлить до бесконечности зазор между уже
состоявшимся концом философии (концом истории философии – в Гегеле и Ницше) и
конечным и необратимым осознанием этого конца. Решение – это выбор между осознанием случившегося и отказом от такого
осознания.
В последние годы жизни
Хайдеггер склонялся к заключению о том, что Запад принял решение игнорировать
конец философии и предал себя стихии «бесконечно кончающегося конца».
В 1930-е и 1940-е годы
Entscheidung делался в форме отказа Европы от двух версий Machenschaft(37),
финальных воплощений tecnh в триумфе машинной философии машинного
(американского) общества, которое Хайдеггер называл «планетэр-идиотизмус»(38),
и советского, марксистского. Проиграв битву за Европу как за иное решение (по сравнению с
США и СССР как двумя формами предельных воплощений западноевропейской
метафизики), Запад сделал выбор в пользу ничто, в пользу отказа от Ereignis.
Решение и русская
философия
Снова возвращаемся к
нашей проблематике – возможности русской философии.
Если мы отнесемся к
Хайдеггеру доверительно и возьмем его философию как историю философию, служащую
нам образом целого в круге философской герменевтики, мы можем наметить два пути
становления русской философии в новых обстоятельствах, когда легитимность
гегелевской (и марксистской) версии исчерпана.
Первый: принять
реконструкцию Хайдеггера, а также роль самого Хайдеггера как оформителя
надгробной речи над западноевропейской философией. Тогда мы сможем вступить в
права на ее изучение в биографическом или, в случае крайней степени
недоверчивости, паталогоанатомическом планах (мы будем изучать мертвое,
разбирая, как и почему оно умерло и как оно умирало). Если при этом у нас
возникнут сомнения в обстоятельствах смерти, мы сможем откопать труп и провести
повторную экспертизу. В любом случае русская философия, построенная на таком
основании, сможет стать достоверной – мы будем понимать то, что мы исследуем, и
получим корректное представление о смысле и значении того, что изучаем. Этот
осознанный контакт с ничто, выраженный в
современном моменте истории философии, будет гарантом достоверности нашего
философского мышления и основой интерпретационной шкалы, на основании которой
мы будем осознавать и постигать то, что предстает нашему вниманию.
Во-втором случае
открывающаяся перспектива более многообещающа: приняв Хайдеггера, мы сможем
выдвинуть свои претензии и амбиции на соучастии в другом Начале. Хотя для этого простого энтузиазма не достаточно, и нам
придется взять на себя труд погрузиться в тонкости и нюансы истории западной
философии, ибо другое
Начало не
может произойти. (случиться .открыться) без скрупулезного и тщательного
отслеживания всего процесса дезонтологизации, зародившегося в пределах первого
Начала. Иными словами, другого Начала без соучастия в судьбе первого, вряд ли
можно ожидать. Чтобы сподобиться соучастия в другом Начале, нам надо прожить и исчерпать судьбу западноевропейского
нигилизма (а для этого у нас есть некоторые исторические основания в форме
советского периода и русского прочтения марксистской философии). В любом
случае, чтобы получить мандат на соучастие в таком решении, мы должны быть не вне, а внутри западноевропейской
философии: экстремальный курс вхождения в которую нам, впрочем, гарантирован в
случае признания легитимности историко-философской реконструкции Мартина
Хайдеггера.
То, что русские находятся
не так далеко на пути за край Запада, к точке Великой Полночи, не должно нас
вводить в заблуждение. Это не основание для того, чтобы избежать влияния этой
финальной эсхатологической точки – не сегодня, так немного позже, но мы будем
именно там. То, что мы «все еще
не»,
«noch nicht» не может нас успокаивать или внушать пустые надежды: дно бездны – вот, что даст
возможность получить часть в ином наследии, в другом Начале. «Уже в нем», а не «еще не в нем» – такова страшная ставка в
историко-философском процессе.
Феноменологическая
деструкция
Как в XIX и XX веках мы
оперировали гегелевско-марксистской моделью реконструкции историко-философского
процесса для выявления содержания и смысла любого философского явления, школы,
автора или теории, сегодня, приняв легитимность Хайдеггера и его истории
философии, мы сможем довольно точно и однозначно классифицировать и
интерпретировать любой факт истории философии через операцию
«феноменологической деструкции». Именно этот хайдеггеровский тезис из
«Sein und Zeit» (39) взял на вооружение Деррида в своем знаменитом методе
«деконструкции» (ранее им пользовался Лакан)..... У Дерриды речь идет о контекстуализации
того или иного высказывания в изначальной семантической среде, требующей
тщательного исследования. Это следствие применения правил структурной
лингвистики и коннотативного подхода (вопреки денотативному) в контент-анализе
философского дискурса. В оригинальной версии Хайдеггера, послужившей основой
для «деконструкции», речь идет о еще более четком методе: о размещении того или
иного философского дискурса в общей картине «целого» историко-философского
процесса, осознанного как поэтапное движение по траектории дезонтологизации в
направлении к тотальному нигилизму. То место, где на этой траектории находится
то или иное высказывание или философская теория, и предопределяет его
герменевтическое значение.
После принятия истории
философии Хайдеггера философские факты и констелляции фактов приобретут для нас
смысл.
Хайдеггер и
вторая попытка русских вступить в философию
Вторая попытка русских
вступить в философию напрямую связана с Мартином Хайдеггером. Без истории
философии – причем внятной, емкой и телеологической – русские проникнуть в
герменевтический круг западной философии не смогут. Конечно, остается сомнение:
а надо ли, вообще, нам туда проникать? Причем констатация нарастающего
нигилизма процесса западноевропейского философствования едва ли способствует
тому, чтобы это сомнение развеять. Но все же на чисто теоретическом уровне,
если мы не хотим оставаться в философском процессе вечными невеждами,
принимающими одно за другое и всякий раз не за то, что оно есть на самом деле,
мы просто обречены на то, чтобы принять одну из историй философии Запада на
веру. А выбор, как мы убедились, здесь невелик. Большинство тех конструкций,
которые известны под именем «истории философии», представляют собой вовсем не
то, что нам требуется: в них описан формальный процесс потока философских
теорий и концепций, чья имплицитная логика внятна лишь тому, кто в этом
процессе участвует естественным образом – в силу культурной принадлежности к
обществу, построенному на философских основаниях. Основания же нашего общества
и нашей культуры – какие угодно, только не философские, а значит, никакими
личными усилиями мы эту брешь не закроем. Нам нужен образ «целого», только
тогда мы сможем корректно оценить частное. А вот естественным представителям
западноевропейской культуры такой образ совсем не обязателен – имплицитно он им
известен, они являются его частью. Мы же на этом пути в бездну – посторонние, и
траектория, цели и причины этого пути нам далеко не очевидны.
Можно рассмотреть и иные
версии истории философии – столь же емкие и голографические, как философия
Мартина Хайдеггера. Но что-то на ум ничего не приходит. Есть несколько версий
философии истории (например, у К.Ясперса) (40) , но это совершенно другое.
История философии не есть философия истории. Если такие истории философии в ХХ
веке обнаружатся и будут достаточно обоснованы, то можно будет подумать и об
иных возможностях русской философии, точнее, об иной возможности русской
философии. На первый взгляд, Хайдеггер есть самый оптимальный для нас вариант,
самый логически и структурно близкий к тому, чтобы дать нам первичный
основополагающий импульс.
--
Сноски
(1) Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция /
Философия эпохи постмодерна. / Сб. переводов и рефератов. Минск, 1996.
(2) Сорокин П.А. Социальная и культурная
динамика. М.: Астрель, 2006.
(3) Шпенглер О. Закат Европы. М.,
1993.
(4) Кун Т. Структура научных
революций. М., 1977.
(5) Дугин А. Постфилософия, М., 2009.
(6) Jaspers Karl Vom Ursprung und Ziel der
Geschichte. München & Zürich, 1949.
(7) Фуко М. Воля к истине. По ту
сторону знания, власти и сексуальности. М.: Магистериум—Касталь, 1996.
(8) Heidegger M. Bd. 59 Phaenomenologie
der Anschauung und des Ausdrucks. Theorie der philosophischen Begriffsbildung.
Frankfurt am Mein, 1920.
(9) Heidegger M. Sein und Zeit, Tubingen:
Max Niemeyer verlag, 2006.
(10) Heidegger M. Vorträge und Aufsätze.
1936-53. Gesamtausgabe Bd 7. Frankfurt am Mein:Vittorio Klosterman, 2000.
(11) Heidegger M. Beitraege zur Philosophie
(vom Ereignis), Gesamtausgabe Bd 65. Frankfurt am Mein: Vittorio
Klosterman, 1989.
(12) Heidegger M. Geschichte des Seyns
(11938/1940). Gesamtausgabe Bd 69. Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman,
1998.
(13) Heidegger M. Uber den Anfang.
Gesamtausgabe Bd 70. Frankfurt am Mein:Vittorio Klosterman, 2000.
(14) Heidegger M. Holzwege. Frankfurt am
Mein: Vittorio Klosterman, 2003.
(15) Heidegger M. Geschichte des Seyns
(11938/1940). Op. cit.
(16)
Ibidem.
(17) Heidegger M. Brief über den Humanismus
(1946). Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 1949.
(18) Рассел Б. История западной философии в ее связи с политическими
и социальными условиями от античности до наших дней В 3-х кн. Новосибирск,
2001.
(19) Heidegger M. Sein und Zeit. Op. cit.
(20) Heidegger M. Nietzsche I. 1936- 39,
Nietzsche II. 1939-46, Gesamtausgabe Bd 6. Frankfurt am Mein: Vittorio
Klosterman, 1996.
(21) Heidegger M. Holzwege. Op. cit.
(22) Heidegger
M. Beitraege
zur Philosophie. Op. cit.
(23) Heidegger
M. Geschichte
des Seyns (11938/1940), Op. cit.
(24) Heidegger
M. Uber
den Anfang. Op. cit.
(25)
Heidegger M Vorträge und Aufsätze. Op. cit.
(26) Heidegger
M. Beitraege
zur Philosophie. Op. cit.
(27) Heidegger
M. Geschichte
des Seyns (11938/1940), Op. cit.
(28)
Heidegger M.Einfuehrung in die Metaphysik, Tuebingen, 1953.
(29) Ницше Ф. По ту сторону добра и
зла// Ницше Ф. Сочинения в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 240.
(30) Heidegger
M. Beitraege
zur Philosophie. Op. cit.
(31) Heidegger
M. Das
Ding/ Vorträge und Aufsätze. Op. cit.
(32) Heidegger
M. Holzwege.
Op. cit.
(33) Heidegger
M. Wozu
Dichtern?/ Heidegger
M. Holzwege.
Op. cit.
(34) Heidegger
M. Wer
ist Niezsches Zaratustra?/ Vorträge und Aufsätze. Op. cit.
(35) Дюма А. Граф Монте-Кристо
/Собрание сочинений. Т.3. М., 1993.
(36) Шмитт К. Политическая теология. М,
2001.
(37) Heidegger
M. Einfuehrung
in die Metaphysik. Op. cit. и Heidegger
M. Geschichte
des Seyns (11938/1940). Op. cit.
(38) Heidegger
M. Beitraege
zur Philosophie. Op. cit.
(39) Heidegger
M. Sein
und Zeit. Op. cit.
(40)
Jaspers Karl Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Op. cit.
|
|
|
17.09.2012 |
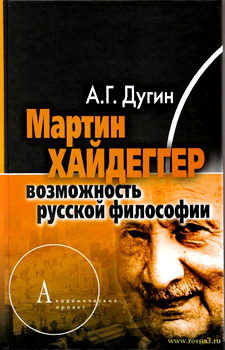
Представляем вниманию читателей портала Центра Консервативных Исследований текст книги Дугина А.Г. "Мартин Хайдеггер: возможность русской философии. Том 2". Этот труд – продолжение другой книги данного автора «Мартин Хайдеггер: философия другого начала».
Согласно Хайдеггеру, западноевропейская философия подошла к своему логическому концу. Отныне открывается перспектива «другого Начала» в философии, в противном случае человечество ожидает «конец истории».
Если западноевропейская философия кончилась, утверждает профессор Дугин, то русская еще и не начиналась. То, что называлось «русской философией» представляло собой попытки русских мыслить по-европейски о русских вещах. Получалось ужасно.
Главы посвященные «русской философии» носят говорящие названия: «Петр Чаадаев: философия как русофобская практика», «Владимир Соловьев: маргинал европейского дискурса», «Иван Ильин: русский патриотизм на прусский манер», «Советская философия как токсические отходы».
По мнению Дугина, возможность возникновения русской философии блокирована дисгармоничным сочетанием европейского модерна с архаическими пластами русского народного мировосприятия. Чтобы разблокировать эту тупиковую ситуацию, называемую автором археомодерн, необходимо вернуть Западу то, что мы от него заимствовали и начать строить полноценную русскую философию, отталкиваясь от чистой стихии «русского Начала». Но сделать это возможно через внимательное прочтение князя западноевропейской философской традиции, великого мыслителя Мартина Хайдеггера.
Книга предназначается для тех, кому небезразлична судьба философии и судьба России.
Оглавление:
|
|
Продолжение...
|
|
|
19.08.2012 |
|
Представляем вниманию читателей портала Центра Консервативных Исследований текст Приложения "М. Хайдеггер: К чему поэты?" книги Дугина А.Г. "Мартин Хайдеггер: философия другого Начала".
|
|
Продолжение...
|
|
| | << В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > В конец >>
| | Всего 46 - 54 из 732 |
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
7
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8
80
81
82
83
84
85
87
9
|